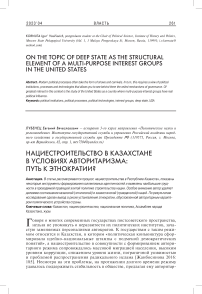Нациестроительство в Казахстане в условиях авторитаризма: путь к этнократии?
Автор: Лубенец Е.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс нациестроительства в Республике Казахстан, показаны некоторые инструменты формирования коллективных идентичностей и выявлены наибольшие трудности в проводимой правящей элитой политике строительства нации. Особое внимание автор уделяет дилемме соотношения казахской (этнической) и казахстанской (гражданской) наций. По результатам исследования сделан вывод о риске установления этнократии, обусловленной авторитарным характером политического устройства страны.
Казахстан, нациестроительство, национальная политика, ассамблея народа казахстана, жузы
Короткий адрес: https://sciup.org/170199986
IDR: 170199986 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9754
Текст научной статьи Нациестроительство в Казахстане в условиях авторитаризма: путь к этнократии?
Говоря о многих современных государствах постсоветского пространства, нельзя не упомянуть о неразвитости их политических институтов, зачастую заменяемых персоналиями автократов. К государствам с таким режимом относится и Казахстан, в котором «политическая конъюнктура сформировала идейно-национальные штампы с подменой демократических понятий», а нациестроительство в совокупности с формированием авторитарного режима сопровождалось массовой миграцией населения, высоким уровнем коррупции, снижением уровня жизни, пограничной уязвимостью и проблемой распространения радикального ислама [Жанбосинова 2016: 185]. Несмотря на эти проблемы, на протяжении долгого времени режиму удавалось поддерживать стабильность в обществе, предлагая ему авторитар- ную модель развития в обмен на политические свободы, однако она оказалась неспособной преодолеть существующие размежевания внутри нации. Пожалуй, наиболее важный раскол в казахстанском обществе проходит по линии размежевания трех политико-этнических образований – жузов, имеющих свои местные элиты, между которыми национальной элите приходится искать компромиссы и обеспечивать консенсус, сохраняя при этом привилегии своей родовой группы. С самого начала независимости современного Казахстана такой группой оказались представители Старшего жуза, сосредоточившие в своих руках верховную власть в стране [Амрекулов 2000]. К сожалению, занимающие высокие посты родственники еще более высоких чиновников зачастую не имеют должного профессионализма, но при этом пользуются неприкасаемостью благодаря кланово-родовым связям и земляческому окружению. И подобные проявления трайбализма, коррупции и непотизма (кумовства) распространены практически во всех слоях общества, несмотря на то, что в целом такие практики, по наблюдениям некоторых казахстанских экспертов, подвергаются осуждению [Шакеева, Шайкемелев, Айтымбетов 2020]. Вероятно, наилучшее объяснение распространенности этих явлений предложил Э. Хобсбаум, отметивший, что в постсоциалистических странах принадлежность к нации, подобно родственным связям, предоставляет членам одной группы преимущества перед другими в условиях ограниченности ресурсов переходных экономик [Хобсбаум 1998].
На низовом уровне противоречия между жузами осложняются более разнообразной с этнической точки зрения структурой населения (в отличие от представленной преимущественно титульной нацией элиты), что требует от субъектов символической политики Казахстана преследования двух главных целей: во-первых, сохранения представителей вышеупомянутой этнической элиты на ключевых постах; во-вторых, сплачивания казахской нации путем преодоления феодальных пережитков, а затем и казахстанской нации с помощью недопущения конфликтов на национальной почве, на что направлены национальная и символическая политика.
В качестве одного из примеров символической политики (хотя значение этого события отнюдь не было таковым) можно назвать перенос столицы из Алматы, расположенной в Старшем жузе, на территорию Среднего жуза – в Акмолу (Астану). Данный шаг должен был ослабить влияние прежних кланов и подчеркнуть равнозначность всех жузов и, следовательно, единство казахской нации. Однако последовавшее перенаправление миграционных потоков привело к изменению демографического состава населения, а именно к увеличению доли титульного этноса [Садовская 2001].
Однако для сплачивания всего многоэтничного населения в гражданскую нацию необходимы и другие меры. Одним из наиболее распространенных инструментов нациестроительства, в т.ч. и в Казахстане, являются коммеморативные практики, связанные с отмечанием тех или иных исторических событий. На примере государственный праздников хорошо видно, что многие из них так или иначе затрагивают политику памяти и языковую политику: День единства народов Казахстана, наполнивший новым смыслом Первое мая, День языков народов Казахстана и День благодарности, символизирующий благодарность за гостеприимство, проявленное казахами, принявшими на своей земле депортированные во время сталинских репрессий народы [Семененко и др. 2017]. Последний из праздников относительно нов и связан с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана (АНК), представляющей собой собрание представителей различных национально-культурных центров.
Об этом инструменте национальной политики стоит сказать отдельно. Как и в случае с другими организациями, адаптирующими этнокультурные меньшинства, в задачу АНК входит поддержание лояльности среди данных групп населения и инкорпорация их в единую гражданскую общность. В этом смысле особенно показательно переименование АНК в 2007 г. из Ассамблеи народов Казахстана в Ассамблею народа Казахстана, что в большей степени соответствует Конституции 1995 г., в которой упомянут «казахстанский народ» в единственном числе.
Принятию именно такого названия предшествовали годы дискуссий о принципах построения постсоветской государственности и национальной общности. Особенно остро эта проблема стояла сразу после распада Советского Союза в декабре 1991 г. Несмотря на официальное прекращение так называемой ленинской национальной политики, наследие советской политики в сфере межэтнических отношений в Казахстане сохранилось. Проявилось это прежде всего в формулировках конституционных документов 1990–1995 гг., в которых многонациональное население республики было обозначено как народ Казахстана. Однако в последнем из них появилось заметное отличие: если в Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР1, конституционном законе «О государственной независимости Республики Казахстан»2 и преамбуле Конституции 1993 г.3 отдельно упоминается еще и казахская нация, то в преамбуле ныне действующей Конституции 1995 г. данное словосочетание отсутствует4.
Это говорит о том, что Казахстан пошел по пути выстраивания гражданской нации, включив в нее представителей всех народов, не пытаясь ассимилировать их в казахскую этническую нацию. И все же в казахстанских реалиях выявляемое противопоставление между казахстанским народом с признаками гражданской нации, выступающим в качестве источника государственной власти, и казахской нацией оставило возможность для различных интерпретаций:
-
1) казахская нация является консолидирующим ядром многонационального казахстанского народа, что озвучивалось в ряде выступлений некоторых официальных лиц даже после изъятия из конституции понятия «казахская нация»;
-
2) казахи составляют нацию, все остальные народы – диаспоры (данное утверждение активно стало применяться с 2005 г. в политической риторике националистов, когда начался подъем патриотического движения);
-
3) казахи – часть казахстанской нации.
Именно этот тезис пользовался активной поддержкой Н. Назарбаева1, что можно считать наиболее корректным и приемлемым для всех групп населения.
Как бы то ни было, первые шаги по выстраиванию казахстанской нации не вызвали особенного сопротивления каких-либо групп населения, ведь ни для кого не было сделано исключения при признании гражданином страны, т.е. частью казахстанского народа. Если проводить аналогии с подобными процессами в других странах постсоветского пространства, то казахстанский путь имеет больше общих черт с литовским или украинским опытом, когда гражданами были признаны все, кто проживал на территории этих бывших союзных республик на момент провозглашения восстановления независимости в 1991 г., что было, по оценке Т. Кузьо, весьма либеральным шагом, который не позволил создать в них «этническую демократию» подобно Эстонии, Латвии и Израилю [Kuzio 1998: 93] (хотя в последнем более важным является религиозный фактор).
Падение темпов эмиграции, наметившееся в конце 1990-х гг.2 , косвенно доказывает приемлемость для большинства граждан неказахского происхождения тезиса: «мы, казахстанский народ, объединенный общей исторической судьбой, на исконно казахской земле» из преамбулы Конституции 1995 г. Этому еще более поспособствовало изменение политики в национальной сфере на практике3, проявлением чего стало создание уже упомянутой АНК, используемой властью для укрепления лояльности населения к политической системе и межэтнического согласия как главной из опор общественно-политической стабильности.
Но, кроме бесспорно необходимой идеи об общественно-политической стабильности и внимании к межэтническим отношениям, должны быть и другие условия для формирования и объединения нации.
В качестве одного из них в случае Казахстана можно указать символическое значение его первого президента, чья личность, по задумке провластных идеологов, должна была сыграть роль объединяющего начала и гаранта межэтнического согласия. А формальным выразителем этой роли должна была стать АНК, которая на заре независимости, в марте 1995 г., якобы от лица всех народов инициировала референдум по продлению полномочий Н. Назарбаева и тем самым поспособствовала становлению авторитарной президентской власти и, более того, превращению его в отдельный символ нации. Новый символ, закрепляясь в сознании народа, благодаря вхождению в привычку, постепенно «материализуется». Так, институт президента Казахстана стал ориентиром символической политики, а его высказывания служат побудительным мотивом для других акторов политики идентичности, что в целом присуще авторитарным режимам [Петренко 2016: 73]. И несмотря на кажущуюся либерализацию режима, можно предположить, что новый президент сохранит за собой эту роль национального символа.
Другим немаловажным условием является разрешение языкового вопроса, весьма остро стоящего во многих странах постсоциалистического пространства. Как и во многих бывших республиках СССР, в Казахстане сохраняется тема функционирования русского языка. Для значительной части населения он является родным, в т.ч. и для некоторых казахов. В то же время государственный казахский язык знают не все граждане1. Поэтому власти решили придать русскому языку статус официального (т.е. употребляемого наравне с государственным во всех официальных учреждениях), сохранить за казахским статус государственного языка2, фактически сделав их равноправными.
При этом разрешение данного вопроса также оказалось связанным с личностью первого президента, который отдавал предпочтение русскому языку, чем склонил на свою сторону русских по происхождению работников крупных промышленных предприятий, с настороженностью относившихся к оппозиционно настроенным национал-патриотам, критиковавшим непропорциональное присутствие русского языка в публичной сфере [Ертысбаев 2000].
И конечно, языковая политика затрагивает и образовательную сферу, не лишенную некоторых противоречий. С одной стороны, Конституция Казахстана официально закрепляет беспрепятственное развитие языков всех народов республики. Но, с другой стороны, курс государства на укрепление самобытной национальной культуры обособляет казахскоязычный и русскоязычный образовательные сегменты. Дальнейшему их разделению также способствует постепенно осуществляемый переход казахского языка с кириллической графики на латинскую [Семененко и др. 2017], что затрудняет его изучение и повседневное письменное использование русскоязычными. Интересно, что та же самая проблема возникает и у старшего поколения казахов, привыкших к старому алфавиту, из-за чего общение между разными возрастными группами также усложнится, добавив дополнительный ментальный разрыв между «советскими» и позднепостсоветскими казахами.
В целом же включенность этнических меньшинств в казахстанскую нацию не оспаривается на государственном уровне, а поддержание инклюзивности остается приоритетной задачей власти в области национальной политики. И даже несмотря на тот факт, что в публичном пространстве все еще идет обсуждение того, какая нация должна строиться в Казахстане, – казахская или казахстанская, со стороны интеллектуальной элиты, понимающей опасность этнического национализма, транслируется предпочтительность конструирования именно гражданской нации. В этой связи интересна мысль историка Ж. Сабитова, считающего, «что нация должна быть гражданской и включать всех граждан Казахстана, это однозначно, а все не казахи должны стать 4-м жузом и интегрироваться в эту нацию»3. Изменение же демографического состава населения, в частности в северных областях, куда с этой целью специально переселяются так называемые оралманы (представители казахской диаспоры соседних стран), Ж. Сабитов рассматривает как ложное средство, которое якобы должно было помочь избежать сложного процесса формирования единой нации1.
Впрочем, попытки найти какую-либо объединяющую идею (идеологию), не касающуюся национальных отношений, также не оставляются. В качестве новых национальных идей поочередно предлагались независимость и конкурентоспособность страны, однако, по справедливому замечанию Т. Исмагамбетова, экономические вопросы вряд ли будут способны заменить обычному человеку более экзистенциональные вопросы идентичности, вопросы языка, религии и земли2.
Таким образом, видение пути нациестроительства в Казахстане в общих чертах определено. Нация должна строиться по политико-гражданскому и территориальному признаку и включать в себя не только казахов или тех, кто знает казахский язык, но и людей иного происхождения. Однако в то же время в практической плоскости ключевые государственные должности заняты представителями титульного этноса. В частности, акимы всех областей и городов республиканского подчинения на данный момент являются казахами (и к тому же мужчинами3, если говорить о гендерном дисбалансе). Для автократического режима (остающегося таковым и после прихода к власти в январе 2022 г. К.-Ж. Токаева) все еще актуальным принципом формирования элит остаются непотизм и клановость, основанные на родственных связях, что, в свою очередь, создает риски скатывания к фактической этнократии. Ведь этнос, по выражению Э. Смита, является расширенной семьей или, по крайней мере, ее образом [Сміт 1994]. С другой стороны, этнократию нельзя назвать целью, на которую направлено построение казахстанского государства, о чем свидетельствует его символическая политика. Скорее она является следствием авторитарного правления, при котором определяющий критерий для назначения на ту или иную должность – лояльность покровителю, а не личные качества. Устранение этого корня зла позволит Казахстану перейти к меритократическим принципам общественно-политического устройства.
Список литературы Нациестроительство в Казахстане в условиях авторитаризма: путь к этнократии?
- Амрекулов Н. 2000. Жузы в социально-политической жизни Казахстана. - Центральная Азия и Кавказ. № 3(9). С. 131-146.
- Ертысбаев Е.К. 2000. Генезис выборной демократии в современном Казахстане: проблемы и перспективы. 1990-2000 г. А.: Казак университет. 460 с.
- Жанбосинова А.С. 2016. Национальная стратегия Казахстана: гражданская идентичность или этническая идентичность - время выбора. - Российские регионы: взгляд в будущее. Т. 3. № 3. С. 183-200.
- Петренко Е. 2016. Нациестроительство в условиях авторитарной модернизации: опыт Казахстана. - Мировая экономика и международные отношения. Т. 60. № 6. С. 70-79.
- Садовская Е.Ю. 2001. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и перспективы. А.: Fалым. 259 с.
- Семененко И.C., Лапкин В.В., Бардин А.Л., Пантин В.И. 2017. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском пространстве. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 54-78.
- Смiт Е. 1994. Нацiональна iдентичнiсть. К.: Основи. 224 с.
- Хобсбаум Э. 1998. Нации и национализм после 1780 г. СПб: Алетейя. 306 с.
- Шакеева Б., Шайкемелев М., Айтымбетов Н. 2020. Родовые отношения в Казахстане: возрождающаяся традиция или социальный инструмент? - Центральная Азия и Кавказ. Т. 23. № 4. С. 36-45.
- Kuzio T. 1998. Ukraine: State and Nation Building. L.; NY: Routledge. XIV+298 p.