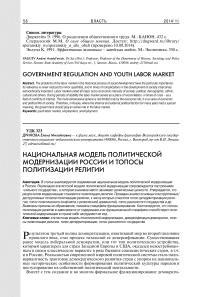Национальная модель политической модернизации России и топосы политизации религии
Автор: Дринова Елена Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 11, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется национальная модель политической модернизации, существующая в современной России. Реализация этатистской модели политической модернизации сопровождается построением «сильного государства», в котором значимое место занимают религиозные ценности. Утверждается, что результатом модернизации становится политизация религии. Проведен анализ основных конструктивных/деструктивных топосов политизации религии, к числу которых относятся топос детерриторизации религии, топос политического конфликта с религиозной доминантой, топос расколотого государства и др. Выявлены причины их образования, показана специфика функционирования. Констатируется, что топосы политизации религии, в зависимости от содержания и их функциональной специфики, способствуют либо затрудняют ход политической модернизации в стране.
Этатистская модель политической модернизации, диверсификация демократии, топосы политизации религии, топос детерриторизации, топос расколотого государства
Короткий адрес: https://sciup.org/170167269
IDR: 170167269
Текст научной статьи Национальная модель политической модернизации России и топосы политизации религии
Р езультатом третьей волны демократизации, охватившей мир во второй половине прошлого века, стал процесс тотальной ее диверсификации. Существовавшая ранее модель либеральной демократии, или тот тип политического устройства, который характерен для стран Западной Европы и США, оказался невостребованным в своем классическом варианте в ряде бывших социалистических стран, в т.ч. и в России. Реальностью современной мировой политической системы стала поливариантность трактовок демократического развития стран с упором на национальные исторические особенности формирования политической культуры народов и постулирование их собственной политической ментальности.
Вместе с тем создание и во многом формальное функционирование демократи- ческих институтов поставили перед лидерами стран сверхсложную задачу – разработать, обосновать и реализовать свою национальную модель политической модернизации. Такая позиция принимается, как правило, в штыки западными странами, которые жестко придерживаются идеи либеральной модели демократии. Попытки разными способами привить либеральную модель демократии порождают очаги напряженности во всех странах, которые встали на путь демократических преобразований, отличных от западного образца.
В начале ХХI в. этот процесс принял необратимый характер и стал реальностью современного мира. Следует отметить, что поливариантность национальных моделей демократии была обусловлена, в первую очередь, национально-историческим развитием самих государств, уровнем их экономического развития, консолида-цией/деконсолидацией доминантных элитных политических групп, а также трансформацией ценностных систем, десекуляризицией общества, активным участием религиозных и общественных организаций, политических движений конструктив-ной/деструктивной направленности в модернизационных преобразованиях общества.
На рубеже ХХ–ХХI вв. Россия активно включилась в процесс политической модернизации. Становление новой государственности сопровождалось системным кризисом, охватившим все сферы общества, падением уровня жизни, обострением этноконфессиональных отношений. Стремление российской элиты взять курс на реальную политическую модернизацию не всегда получало поддержку в обществе. Становление институтов демократии порой сопровождалось откатами к авторитаризму. В связи с этим ряд отечественных политологов стали сомневаться в том, что в России вообще возможно проведение политической модернизации. В частности, об этом пишет В.И. Буренко [Буренко 2012: 32-42].
Вместе с тем следует признать, что в начале 90-х доминантные элитные группы в России были заинтересованы в создании и функционировании демократических институтов, но эти институты были быстро адаптированы к их собственным интересам. В результате в стране был сформирован авторитарно-бюрократический режим, а процесс политической модернизации со временем зашел в тупик.
С приходом к власти В.В. Путина в качестве президента РФ ситуация в стране качественно изменилась. Политическое руководство страны взяло курс на реализацию национальной модели политической модернизации и построение «сильного государства». В России формирование сильного государства осуществляется в процессе этатистской модели политической модернизации. В числе основополагающих черт этой модели в первую очередь следует выделить доминирующую роль государственных структур в ряде сфер общественной жизни. Специфической же чертой этатистской модели модернизации в России является существование гражданского общества, в котором ведущее место занимают религиозные институты христианства, ислама и буддизма. Как справедливо отметил в своем выступлении В.В. Путин, значимое место в стране стали занимать традиционные ценности, которые «исторически доказали свою способность передаваться из поколения в поколение» 1 . Весомую роль в распространении традиционных ценностей сыграли Русская православная церковь, Духовное управление мусульман, буддийская сангха. В ходе модернизационных преобразований в стране были заложены основы новой ценностной системы, где первую скрипку стали играть ценности державности, российской самобытности, стабильности, самостоятельности, суверенности.
Включенность религии в социально-политические процессы страны со временем привела к ее относительной политизации. Следует отметить, что политизация религии в России является, по большому счету, составной частью мирового исторического процесса политизации религии. Современный этап этого процесса имеет определенные стадии развития, которые характеризуются как общими, так и специфическими чертами, обусловленными историческими, политическими, социокультурными и иными составляющими. Основными моментами политиза- ции религии на современном этапе развития выступают: 1) архаическая стадия, для которой характерно существование клановых отношений; 2) интеграционная стадия, основной чертой которой является деятельность религиозных организаций и 3) стадия политической институционализации религии, на которой происходит образование и функционирование религиозных политических партий.
Начиная с 90-х гг. прошлого века процесс политизации религии в России прошел все три стадии. В настоящее время существуют отдельные топосы архаической стадии политизации религии, а также интеграционная стадия. Что же касается стадии политической институционализации религии, то она была заблокирована из-за принятия закона, запрещающего создание и функционирование политических партий на религиозной основе 1 . В настоящее время процесс политизации религии в стране характеризуется конструктивно/деструктивным характером и многообразием топосов политизации религии.
В контексте исследуемой нами проблемы мы считаем необходимым обосновать понятие топоса политизации религии. Исходя из идеи Дж. Милбанка, утверждавшего, что фундамент религии составляют как «эксцентрические» обычаи, постоянное воспроизведение одного и того же действия, так и «привязанность» к определенным периодам времени и определенным местам, можно полагать, что существуют топосы религии [Милбанк 2013: 217]. В переводе с латыни topos обозначает место. Речь идет о том, что любое действие, связанное с проявлением религиозности, происходит в пространственно-временном континууме. Что же касается топоса политизации религии, то речь идет о процессе политизации религии, который происходит на определенной территории. Понятие «топос политизации религии» следует рассматривать в узком и широком смысле слова. В первом случае речь идет, прежде всего, об определенной части территории, на которой возникает относительно обособленное, но самодостаточное этноконфессиональное сообщество, которое имеет свою «доктринальную специфику» и прямо или латентно участвует в политическом процессе. В широком смысле слова под топосом политизации религии подразумевается совокупность параметров политического процесса, характерных для религии и всех явлений, так или иначе связанных с проявлением религиозного. В своей идеальной форме топос политизации религии рассматривается как явление религиозного бытия, которое характеризуется политической активностью на определенной территории. Следует отметить, что созидательный или разрушительный характер топосов политизации религии во многом определяется как внутриполитической системой ценностей, так и приоритетами государства.
В России специфическим проявлением национальной модели политической модернизации с 90-х гг. прошлого века стало существование локальных топосов архаической стадии политизации религии, обусловленных возрождением клановых форм организации власти, «законсервированных» в период существования СССР. Реархаизация общественных и политических отношений имеет место в Дагестане, Калмыкии, Башкирии, Татарстане, Туве. В этих республиках значимая часть населения идентифицируют себя с той или иной племенной группой. Как отмечает Ч.К. Ламажаа, «для региональных лидеров клановый принцип» выступает более близкой и неизжитой исторической формой организации социальных и политических отношений по той причине, что клановость в регионах представляет длительно существующую проблему большого масштаба [Ламажаа 2007: 140].
Топос архаической стадии политизации религии длительное время существовал в Калмыкии. Благодаря политике, проводимой президентом К. Илюмжиновым, в республике были восстановлены и построены буддийские храмы. По мнению К. Илюмжинова, конструктивный потенциал буддизма с его кармической предопределенностью способствовал грамотному управлению республикой. Топос архаической стадии политизации религии имел место также в республике Татарстан, где с 1991 по 2010 г. президентом был М. Шамиев, уделявший особое внимание возрождению и распространению традиционного ислама.
Следует признать, что топосы архаической стадии политизации религии, которые воспроизводят древнейшие элементы родоплеменных властных отношений, активно используя при этом религиозную систему ценностей, несомненно, являются тормозом для проведения политической модернизации в России. Ведь, как показывает практика, ключевые посты в республиках, где преобладают клановые отношения, занимают многочисленные родственники, которые отодвигают на периферию профессионально подготовленные кадры.
В настоящее время в стране происходит образование топосов детерриториза-ции религии. Основной причиной их формирования являются миграционные процессы, обусловленные, как правило, исламской составляющей. Вообще само понятие «детерриторизация религии» означает активное вторжение новой религиозной модели в чужое для нее религиозное пространство. Как считает французский политолог и исламовед О. Руа, детерриторизация религии, а применительно к странам Западной Европы – ислама, это есть переселение мусульман на Запад. Детерриторизация ислама, по мнению О. Руа, представляет собой не только возможность лучших экономических возможностей, но и формирование так называемой псевдоуммы, характерной чертой которой становится религиозная идентичность. Следует отметить, что в странах Западной Европы топосы детеррито-ризации религии стали формироваться еще в 60-х гг. прошлого века. В настоящее время вынужденные переселенцы – мусульмане ощущают себя более комфортно в стране, которая приняла их, чем у себя на родине. В секуляризованной Западной Европе отсутствует необходимость строго соблюдать все религиозные обряды и придерживаться законов шариата. Функционирование топосов детерриторизации религии в странах Западной Европы сопровождается строительством и функционированием культовых исламских зданий и формированием новой религиозной страты в обществе на основе коренных граждан страны. Активное распространение ислама в Западной Европе привело не только к росту многочисленной исламской диаспоры в центре Европы, но и к тому, что граждане молодого и среднего возраста стали принимать ислам. Британская и германская пресса приводит многочисленные примеры того, как молодые люди в Западной Европе добровольно принимают ислам. Новая религия представляет для них некую культурную духовную целостность, новое восприятие жизни и свидетельствует о поиске нового экзистенциального статуса западноевропейской молодежи. Отличительной чертой топосов детерриторизации религии в странах Западной Европы становится радикализация ислама, что вызывает все нарастающее опасение в политических кругах Западной Европы. Что же касается России, то здесь формирование топосов детерритори-зации религии только началось. Ну а каковы будут последствия этого процесса – покажет будущее.
Процесс политической модернизации в России способствовал образованию топоса «расколотого государства». Становление топоса сопровождается перманентными изменениями в идеологической сфере, приводит к смене, в т.ч. и насильственной, ценностных систем. В России одной из причин появления топоса «расколотого государства» стало стремление политической элиты использовать интеграционный потенциал религии для становления гражданского общества.
В России длительное время существовали деструктивные топосы политизации религии, структурно-функциональная специфика которых была обусловлена в первую очередь ходом политических конфликтов с религиозной доминантой. В Республике Татарстан с начала 90-х гг. прошлого века и по настоящее время существует топос политического конфликта с религиозной доминантой, образование которого было вызвано существующими противоречиями между федеральной и региональной властью, между светской и религиозной элитами, а также длительным противостоянием между традиционным и нетрадиционным исламом. В 90-х гг. ХХ в. в Казани активно действовала националистическая религиозная организация «Иттифак», лидер которой Ф. Байрамова призывала к сплочению татарской нации, к самоопределению татарского народа на основе системы ислам- ских ценностей. В это время в республике активно действовали зарубежные миссионеры. Результатом религиозной экспансии миссионеров из Саудовской Аравии стало распространение ваххабитско-cалафитского ислама в Татарстане. В настоящее время в республике радикальный ислам активно распространяется в молодежной среде, среди преступных группировок, а также в местах заключения. Следует отметить, что радикальный ислам в Татарстане принимают не только татары, но и этнические русские. В распространении нетрадиционного для Татарстана радикального ислама значимую роль играет международная партия Хизб ут-Тахрир. Главной целью запрещенной исламской партии является не только распространение «чистого» ислама, но и построение теократического государства – халифата. Все чаще радикальные мусульмане в Татарстане призывают к распространению джихада. В последние годы их деятельность активизировалась. Распространение салафизма приняло в Татарстане угрожающий характер. Так, в 2012 г. в республике был расстрелян религиозный деятель В. Якупов, который активно выступал против распространения идей салафитов. В то же время был подорван в машине муфтий И. Фаизов. В 2013 г. радикально настроенные мусульмане неоднократно поджигали православные церкви в Татарстане. В августе 2014 г. был осуществлен поджог мечети в Казани. Все эти факты свидетельствуют о существовании на территории Татарстана деструктивных топосов политизации религии.
В заключение следует отметить, что реализация этатистской модели политической модернизации в России имеет свою специфику, обусловленную национальной историей и культурой. В политической сфере речь идет о создании и функционировании «сильного государства», возглавляемого национальным лидером, пользующимся безусловной поддержкой его граждан. В социальной культурной сфере характерной чертой реализации этой модели является десекуляризация общественных отношений и латентное включение религиозных конфессий, движений и организаций во внутриполитический процесс. При этом доминантные политические элитные группы открыто проявляют и демонстрируют свою религиозность как факт их патриотической ориентации в общественной жизни. Последнее, несомненно, влияет на формирование новой системы культурно-мировоззренческих и этических ценностей, в которых значимое место занимают ценности религии. В современной России духовные ценности все чаще ассоциируются с традиционными историческими ценностями, что закономерно приводит к реархаизации общества. Вместе с тем религиозная составляющая национальной модели политической модернизации в России способствует возникновению разнообразных топосов политизации религии, что как затрудняет, так и облегчает модернизационные преобразования в стране, порождая надежды на утверждение ценностей демократии и свободы, основанных на культурно-историческом опыте народов, населяющих Российскую Федерацию.
Список литературы Национальная модель политической модернизации России и топосы политизации религии
- Буренко В.И. 2012. О невозможности политической модернизации в связи с особенностями правящего класса современной России//Модернизация России: информационный, экономический, политический, социокультурный аспекты. М., Изд-во Мосгу. С. 32-42.
- Ламажаа Ч.К. 2007. Клановость в политической жизни регионов России.//Знание. Понимание. Умение, №3. С. 133-147.
- Милблан Дж. 2013. Надзор над возвышенным: критика социологии религии.//Государство, религия, церковь, № 3. С. 210-288.