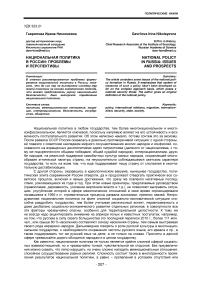Национальная политика в России: проблемы и перспективы
Автор: Гаврилова Ирина Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы формирования национальной политики в России; показано, что до сих пор не выстроена система мер такой политики на основе комплексного подхода, что может представлять угрозу национальной безопасности; дано авторское определение национальной политики.
Политика, межнациональные отношения, миграция, интернационализм, безопасность, государство, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14935381
IDR: 14935381 | УДК: 323.21
Текст научной статьи Национальная политика в России: проблемы и перспективы
Национальная политика в любом государстве, тем более многонациональном и многоконфессиональном, является ключевой, поскольку напрямую влияет на его устойчивость и возможность поступательного развития. Об этом написано немало, потому сочтем это за аксиому. После развала СССР Россия оказалась в довольно противоречивой ситуации: с одной стороны, ей повезло с советским наследием мирного сосуществования многих народов и конфессий, основанного на взращенных десятилетиями идеях патриотизма (далекого от национализма, к тому же подкрепленного общими победами, общей судьбой народов), интернационализма, дружбе народов, на реальной поддержке самобытных культур малых народов, сохранившей многообразие этнической палитры страны, на неукоснительно соблюдавшемся светском характере государства, то есть на всем том, что еще поддерживает нашу страну от сползания в окончательную дестабилизацию.
С другой стороны, оказавшись в идеологическом вакууме, нынешнее государство, политическая элита современной России отвергли, да и продолжают отвергать практически все советское прошлое, включая и явные достижения, что сразу же повлекло негативные последствия, усиливающиеся из года в год. При этом новые ориентиры, предлагаемые руководством (православие, державность, усиление вертикали власти и т.д.), не позволяют выправить ситуацию, усугубление которой в сфере межэтнических отношений в свое время спровоцировали начавшиеся в 1990-х гг. стремительные процессы развала экономики, прежних связей. Непродуманная национальная политика на фоне сложной социально-экономической ситуации способна раздробить государство, тем более учитывая религиозный аспект, неравномерность и даже дисбаланс социально-экономического развития отдельных регионов; в совокупности все эти факторы чрезвычайно опасны, особенно для территориальной целостности. К тому же не всегда надо акцентировать внимание на априори ясных и известных постулатах, например, на том, что русские в силу своего большинства (по последней переписи 2010 г., более 111 млн. чел., или свыше 80 % населения) составляют основу населения страны, тем самым выстраивая своего рода иерархию народов. Дальновиднее говорить о роли русской культуры в многонациональном государстве, о необходимости сохранения чистоты русского языка, его ареала и пр., а также поддерживать тот же русский язык на деле, а не только на словах. Просчеты в данной сфере чрезвычайно дорого обходятся народам и в целом государству.
Как известно, национальная политика не только является крайне сложной сферой социальных взаимоотношений, но и чрезвычайно тонкой, чувствительной ее стороной. Без преувеличения можно сказать, что легко нарушить, но очень сложно наладить межнациональные отношения, спокойное сосуществование разных религий. Сложность состоит также в многогранности проявления результатов национальной политики, а равно - проявлений в условиях отсутствия или неверного ее курса. И неизвестно, что еще хуже - отсутствие внятной политики в сфере межнациональных отношений или неверные ориентиры, недостаточно выверенные стратегия и тактика такой политики. Не стоит забывать, что неправильная национальная политика (впрочем, ее отсутствие тоже можно назвать политикой; здесь подразумевается прежде всего практическая плоскость, а не намерения) имеет далеко идущие последствия, чью разрушительную силу трудно точно рассчитать, хотя возможно в общих чертах спрогнозировать. Тем не менее история доказывает, что пренебрежение этими вопросами, недостаточное к ним внимание, недопонимание или неверная трактовка способно развалить государство, взорвать социум изнутри.
Итак, как видно уже отсюда, проблема выработки и осуществления выверенной национальной политики важна и актуальна во все времена. То, что в современной России не все благополучно в сфере межнациональных отношений, ясно уже давно. Так, согласно опросу ВЦИОМ «Межнациональные отношения глазами москвичей и петербуржцев» 14-24 ноября 2011 г., 63 % москвичей и 54 % петербуржцев констатировали ухудшение межнационального климата в стране [1, с. 676-677]. Близки к этим и данные других опросов. Однако лишь в последнее время руководство страны обратило внимание на эту сферу. Но возникает в этой связи закономерный вопрос: не поздно ли, да и приведет ли это к лучшему? К сожалению, многое свидетельствует, что ситуация в ближайшее время не улучшится, скорее можно ожидать ухудшения. Что дает основания для такого пессимистического прогноза, попытаемся рассмотреть подробнее.
Во-первых, до сих пор не признана, во всяком случае, не артикулирована на высоком уровне ошибочность отказа от успешной практики национальной политики советского периода, например, того же интернационализма, давшего хорошие плоды, доказавшего свою значимость в условиях совместного проживания многих этносов, наличия большого числа смешанных браков, в воспитании подрастающего поколения. Интернационализм (от лат. inter – «между», natio – «народ») – идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями, понятие используется как антитеза национализма, а иногда и толерантности (от лат. tolerantia – «терпимость»). Последняя определяется, как «настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение права на отличие» [2]; заметим при этом, только настроенность, а не само понимание и признание. Именно интернационализм создал в советские годы условия для складывания надэтнической общности - советского народа. К концу 1980-х гг., заметим, это достижение ставилось под сомнение многими, включая обществоведов, но жизнь доказала правоту этой точки зрения, но лишь тогда, когда сама страна, породившая советский народ как явление, исчезла. Тем не менее очевидно, что единая наднациональная общегражданская общность людей (что и представлял собой советский народ), проживающая на одной территории, говорящая хотя и на разных языках, но имеющая объединяющих всех язык (в нашем случае - русский, который знали все граждане), придерживающаяся единых ценностей, в том числе основывающихся на дружбе народов и солидарности (что воспитывалось с детства), равноудаленности от разных религиозных воззрений (подчеркнем, не отрицания, а именно размежевания государства и религии), является цементирующим фактором для любого государства. Причем интернационализм не отрицал этническое многообразие: достаточно вспомнить, что в советских паспортах национальная принадлежность стояла отдельной строкой, и далеко не все народы были довольны ее исчезновением с введением российских паспортов, поскольку большинство из них считали себя одновременно в двух ипостасях.
Можно как угодно к этому относиться, но светскость государства, как и атеизм, порой жестко проводимые в советский период государством, позитивно сказались на межконфессиональных [3] и межнациональных отношениях; и это также для нас должно стать уроком. Наш собственный опыт это показывает, но нынешняя Россия проводит несколько иной курс, отнюдь не способствующий консолидации общества. Так, светский характер российского государства в настоящее время уже далеко неочевиден, особенно когда в МИФИ и других высших учебных заведениях открываются кафедры теологии [4], не философии, заметим, а именно теологии, основанной на догматах, что отражает не только уровень падения нашей науки, но и в целом культуры. Стремительное вторжение РПЦ в светские дела, как и постоянная демонстрация руководством и истеблишментом страны своих религиозных взглядов, явные преференции православию (например, массовое строительство православных храмов так называемой «шаговой доступности» в столице) не остается незамеченным представителями других конфессий. Но ведь Россия, например, и мусульманская страна тоже; ислам у нас традиционно исповедуют миллионы наших сограждан (вполне ожидаемы их симметричные требования строительства мечетей шаговой доступности). Традиционные для России религии также иудаизм и буддизм, немало и атеистов (свобода совести предусматривает отказ от религиозных взглядов), есть и язычники (уж это исконно отечественное верование) и т.д. Да и идет ли на пользу самому пра- вославию такое повсеместное вхождение в государственную жизнь [5], в чем-то даже напоминающая реваншистские устремления некоторых представителей церкви, еще неизвестно.
Отметим также, что, по сути, интернационализм, который, будучи новым явлением, стал логическим продолжением предыдущего исторического пути нашего государства, поскольку лег на благодатную почву. Российская государственность изначально строилась на многоэтнично-сти (финно-угорские, славянские, тюркские, балтские и др. племена), при этом всегда находился адекватный алгоритм выстраивания отношения в рамках одного государства, который менялся, трансформировался, переживал кризисы: тем не менее, со времен Киевской Руси мы, разные этносы, исповедующие разные религии, совместно обустраивали общее для всех государство, так что терпимость для нашей страны давно уже пройденный этап. И если звать исключительно к толерантности, столь модной ныне у нас, хотя в западных странах она уже показала свою уязвимость, то это означает призыв в прошлое, еще больший для нас откат и регресс. В то же самое время, уйдя от исключительно пролетарского интернационализма к просто интернационализму, что не отменяет, тем не менее, пролетарскую солидарность, от воинствующего атеизма к признанию свободы совести, можно было бы сохранить многое позитивное в межнациональных и межконфессиональных отношениях [6].
Во-вторых, до сих пор не предложена четкая и выверенная долгосрочная стратегия национальной политики Российской Федерации (не в смысле конкретного документа, который недавно был принят, а в смысле генеральной линии, выстроенной системы последовательных и четко обоснованных мер), основанная на идеологии, общенациональной доктрине, соответственно, на ясных целях и принципах, хотя без этого трудно выстраивать локальные действия. К тому же к такой стратегии, естественно, имеются свои требования, в частности, она должна носить системный характер, быть последовательной, внутренне не противоречивой, ее тактика должна быть гибкой, точнее - быстро реагирующей на угрозы в этой тонкой сфере, быть ресурсно обеспеченной, иметь слаженную информационную поддержку и пр. Однако пока все это отсутствует, еще точнее сказать - если это и заявляется, то не проводится в жизнь.
Принятая по Указу Президента РФ №1666 от 19 декабря 2012 г. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [7], безусловно, заслуживает внимания и является шагом в нужном направлении, даже несмотря на то, что разрабатывалась она кулуарно, без должного общественного обсуждения. Данный документ, тем не менее, оказался вполне добротным и даже всеобъемлющим, содержащим не только задачи, но и механизмы по достижению основных целей. Среди основных вопросов, требующих особого внимания со стороны государственных и муниципальных органов, стоят такие, как сохранение и развитие культур и языков народов России, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов, создание дополнительных условий для обеспечения межнационального мира и согласия на Северном Кавказе, поддержка проживающих за рубежом соотечественников. Приоритетным направлением было названо совершенствование государственного управления и развитие международного сотрудничества в сфере национальной политики, создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов. Здесь даже было заявлено среди принципов такой, как «преемственность исторических традиций солидарности и взаимопонимания народов России», что дает основания надеяться на преодоление ориентации на исключительно толерантность. В заслугу авторов Стратегии можно, безусловно, отнести также признание необходимости взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества.
Однако и этот солидный документ можно признать в большей степени декларативным, поскольку сохраняются сомнения в претворении в жизнь заявленных задач, многие из них не вплетены в другие направления государственной политики и экономики, хотя в документе и говорится о «комплексном межотраслевом социально ориентированном характере» Стратегии. Грамотная стратегия любой политики, в том числе национальной, должна выстраиваться лишь на системной основе, а этого у нас уже давно нет. К сожалению, российская политика носит социально ориентированный характер только на бумаге. Правда, авторы Стратегии признают наличие проблем и даже «некоторых просчетов в государственной национальной политике». Вместе с тем трудно представить, как можно реализовать задачи Стратегии, например, в сфере поддержки русского языка как государственного, если сокращаются часы в школьной программе на изучение русского языка и литературы. Внутренних противоречий немало: с одной стороны, заявляется необходимость формирования общегражданской российской нации, с другой - прослеживаются уже отмечавшаяся постепенная утрата светскости государства, явное и даже чрезмерное присутствие РПЦ в государственной жизни, чему во многом способствует сама власть и что не идет на пользу православию.
Государство все еще действует хаотично, в частности, запоздало либо не вполне жестко реагирует на экстремистские вылазки, на те же националистические марши (кстати, вполне прогнозировавшиеся, например, при введении нового официального праздника 4 ноября), на шовинистические, псевдопатриотические заявления и призывы, убийства на национальной, расовой почве. Не пресекает должным образом власть и разжигание национальной и религиозной вражды в СМИ, зачастую подливающих масла в огонь. Недостаточное внимание уделяется правоохранительным органам, например, тому, как их сотрудники подготовлены к работе с представителями различных народов и конфессий, не заражены ли сами радикальными взглядами, не говоря уже о проблеме коррупции в их рядах. Отдельная большая тема - государственная образовательная политика: введение новых предметов, а вернее сказать, уход от чисто светского характера российской школы неизбежно усугубит межнациональную и межконфессиональную напряженность и разобщенность в обществе. Поэтому стоило бы отказаться от введения в средних общеобразовательных школах ныне обязательного курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также от призыва привлекать к преподаванию в школе клерикалов. Как компромисс можно было бы предложить всемерную поддержку воскресных и приходских школ.
Однако, несмотря на участившиеся заявления о главенствующей роли православия и русской нации как ядра и основы российского народа, приходится констатировать ухудшение «самочувствия» самих русских. Как показали недавние опросы, среди тех, кто отметил позицию «люди моей национальности многое потеряли за последние 15-20 лет» большинство составили русские: 64 % против 44 % представителей других национальностей [8, с. 14]. В настоящее время проблема размытости, замалчивания русской нации, ее культурных особенностей (а региональные различия среди русских велики), возникшая еще в советские годы из опасений гипотетического возрождения русского шовинизма, только усугубляется ныне. Например, до сих пор среди 989 зарегистрированных в России национально-культурных автономий нет русских. Тем самым, хотя и не только этим, мы принижаем русский народ и неизбежно даем повод русским националистам (что не одно и то же, что патриоты), всем тем, кто считает русских угнетенной нацией, «черноземом», которым «по закону запрещено заводить свои автономнокультурные автономии – они же вроде как не меньшинство» (К. Крылов) [9], а потому и выдвигается лозунг «Россия для русских».
Конечно, это не означает, что всех россиян надо называть русскими, как иногда предлагают, поскольку в этом случае все утратят свою национальную принадлежность, но прежде всего русские люди. Совершенно очевидно, что для создания наднациональной общности по типу советской потребуется идеологическая основа, а также исправление многих ошибок и просчетов; просто заявить о создании гражданской нации – мало, да и вообще правильнее развести понятия «нация» и «народ» (и у нас был единый советский народ, отнюдь не советская нация). По данным Минрегионов России, в 2012 г. лишь 44 % граждан в первую очередь назвал себя россиянами, большинство предпочло говорить о себе в связи с национальной или религиозной принадлежностью. Чтобы подтянуть эти цифры к 86 % к 2018 г., министерство разработало программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», но не все специалисты признают ее эффективным путем решения накопившихся проблем в сфере межнациональных отношений. Стоило бы провести общегражданскую дискуссию на тему российской гражданской нации, прежде чем объявлять ее формирование целью новой национальной политики страны; вообще пора понять, как достичь цели – единство в многообразии, того, что смогли сделать в советский период. А для этого неплохо бы разобраться, нужна ли нам только толерантность или все же пора вспомнить о солидарности, интернационализме, как защитить местный рынок труда и не ущемить права легальных мигрантов, каким образом воспитывать патриотизм, а не национализм, часто трансформирующийся в фашизм, как сделать так, чтобы все народы (и большие, и малые) чувствовали себя защищенными и уважаемыми.
Как представляется, из вышесказанного видно, что национальная политика не сможет обойтись без общественной экспертизы, причем реальной, включающей самые разные формы, в том числе осуществляемой национальным общинами, различными НКО, и потому стоило бы предусмотреть еще на стадии ее выработки широкий общественный контроль [10]; и это тоже одна из составляющих грамотной стратегии национальной политики. Однако и здесь пока больше слов, чем дела. Увлекаясь риторикой, хотя и сами заявления зачастую противоречивы и нелогичны, государство так и не смогло ответить на бросаемые ему вызовы тех же национальных радикалов и экстремистов, что неудивительно ввиду прорывающегося порой скрытого государственного «национализма», весьма противоречивого по своей природе и выражающегося, к примеру, в поддержке казачества или передаче имущества РПЦ, далеко не всегда обоснованной, заметим (можно вспомнить весьма спорную передачу зданий кирх в Калининградской обл. и т.п.). Государство в таких условиях уже не может выступать арбитром, не будучи нейтральным в том или ином вопросе, соответственно, некому контролировать осуществление стратегии и тактики национальной политики, тем более что и общественность не наделена реальными полномочиями контроля.
В-третьих, в условиях глобализации национальная политика должна проводиться в самой тесной связи с миграционной политикой, поскольку ныне без этого просто не обойтись; влияние миграционной составляющей на ситуацию в межнациональных отношениях только растет, причем весьма быстрыми темпами. Однако в современной России на государственном уровне об этом не очень задумываются (в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. об этой задаче говорится, но недостаточно; к тому же важно, чтобы все государственные органы выступали с единых позиций), не говоря уже о практике. Остановимся в этой связи на данном тезисе несколько подробнее.
То, что соотношение разных этносов в населении многих крупных городов изменилось, что стало следствием в том числе увеличения с середины 1990-х гг. миграционных потоков в Россию и эмиграции из России, широко известно, но не нашло своего адекватного отражения ни в миграционной, ни в национальной политике РФ, даже несмотря на упоминание в новой Стратегии на период до 2025 года. Вместе с тем очевидно, что здесь требуется комплексный подход, согласование, взаимоувязывания задач миграционной и национальной политики государства. Вместо этого законодательство часто менялось, намерения власти не всегда были ясны как гражданам, так и мигрантам. Не было и должного просвещения населения, разъяснений происходивших изменений, например, почему поменялся национальный состав в той же столице: не только из-за миграции, но и ввиду резкого роста смертности и падения рождаемости, особенно среди русских, многие из которых к тому же покинули пределы страны. Да и внутренние передвижения населения осложнили ситуацию: известно, что многие русские, бежавшие из Чечни, к примеру, не прижились в центральной России, а выходцы из многонационального Дагестана порой воспринимаются как приехавшие из другого государства.
Однако в том и состоит сложность сферы межнациональных отношений, что одинаково плохо, если что-то недоделано, как и то, что чрезмерно. В данном случае плохо, когда ненадлежащим образом обеспечиваются права человека в лице мигрантов. Вместе с тем плохо будет и в том случае, если в ходе обеспечения прав мигрантов права местных жителей будут в какой-то степени ущемлены. Необходимо найти тонкий, но чрезвычайно важный баланс интересов и прав и тех, и других, основываясь на верном понимании социальной справедливости [12, с. 114-136], которая должна выступать стержнем стратегии национальной политики государства наряду с правами человека. Конечно, это очень трудная задача, но она выполнима, если четко видеть цели, понимать принципы политики, последовательно ее осуществлять, чутко реагировать на выводы специалистов и общественные запросы (что не означает при этом слепого следования тем или иным требованиям), неустанно разъясняя свои шаги, просвещая население, особенно подрастающее поколение. Более того, здесь уместна государственная пропаганда: пропаганда доб- рососедства, взаимоуважения разных народов и культур, то есть интернационализма, солидарной ответственности, патриотизма в его наднациональном, точнее - всенациональном смысле. Что касается толерантности, то, вновь повторим, ее надо воспитывать в межконфессиональных отношениях, для межнациональных - это явный шаг назад для нашей страны. Стоило бы учесть и ошибки других стран, чтобы не повторять их: та же толерантность, или терпимость, в межэтнических отношениях, многокультурность как соседство, но не взаимопонимание через взаимопроникновение разных культур ныне подвергаются там серьезной ревизии, тогда как у нас это пытаются внедрить в массовое сознание как новое и передовое явление.
Вместе с тем было бы неправильным ограничиться только увещеваниями и просвещением, необходимо оперативно и жестко пресекать даже малейшие попытки внести раздор между разными этносами; бездействие власти здесь особо опасно и несомненно представляет угрозу государственной безопасности, впрочем, как и недоучет ментальных и культурных особенностей. Если мы не хотим повторения массовых беспорядков, происходивших в декабре 2010 г. на Манежной площади столицы или в Кондопоге, Сагре, других регионах. И когда появляются, например, обсуждения в СМИ сумм переводов трудовых мигрантов из РФ в соседние государства, представляемые порой как «вывоз финансовых средств» из нашей страны, то эти дискуссии не надо запрещать, конечно, но обязательно и настойчиво разъяснять, что это в большинстве своем честно заработанные деньги, причем еще большие средства остаются в России, не говоря о произведенных здесь продуктах, услугах и пр. А вот скинхеды, например, должны находиться под неусыпным контролем правоохранительных органов, как и расследования массовых драк, нападений, убийств, тем более, в которых одной из сторон выступают мигранты, в особенности нерусской национальности (поскольку большинство населения русские, однако требуют особого внимания абсолютно все преступления, основанные на национальной вражде; необходимо также пересмотреть отношение к антифашистам, зачастую преследуемым государством). Это не только требование международного законодательства, которое, как известно, является неотъемлемой частью внутреннего законодательства, это и залог мирного и стабильного развития страны, ее целостности, безопасности всех ее граждан.
И, безусловно, должное внимание необходимо уделить адаптации мигрантов и интеграции тех из них, кто приехал в РФ на постоянное местожительства; важным аспектом здесь должна стать хорошо отлаженная помощь в обучении русскому языку, а не только неконструктивное требование его знания всеми вновь прибывшими, для этого нет пока условий, позволяющих выдвигать такое требование. Сначала необходимо создать разветвленную сеть доступных (включая бесплатные, вечерние формы обучения) курсов по обучению русскому языку. Подобных скороспелых решений немало, потому и важно, чтобы еще на стадии их выработки принимали участие представители гражданского общества.
Еще один немаловажный аспект связан с федеративным устройством России. Одной из сторон его является, в частности, проблема этносепаратизма. И здесь можно с уверенностью сказать, что отмечаемая рядом исследователей тенденция превращения некоторых субъектов РФ в монореспублики по этническому составу населения не связана собственно с федерацией, а опять-таки с ненадлежащей работой правоохранительных органов, отсутствием действенного контроля, с проблемой коррупции. Кстати сказать, как точно в свое время отмечал А.С. Автономов, ныне возглавляющий Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, мы так и не построили федерацию по национальному принципу, хотя о такой возможности и заявляли еще в 1918 г., а административно-территориальная реформа, проходившая с конца 1920-х до 1950-х гг., «была направлена на укрепление централизованного государства в рамках унитарного государства» [13]. Получается, что современные критики федеративного устройства России идут, по сути, сталинским путем; так что стоит согласиться с выводом ученого - необходимо предпринять определенные шаги по укреплению российской государственности и совершенствованию федеративных отношений, поскольку от этого зависит многое: и экономика, в том числе единство экономического пространства государства, и гарантии соблюдения прав человека, и обеспечение развития наций и народностей в России [14, с. 32]. И потому не плоха сама по себе система государственного федеративного устройства, но плоха, увы, система управления государством. Возможно, стоило бы обратить внимание прежде на установление верховенства закона на всей территории страны, в том числе благодаря грамотной реформе судебной системы, а не только на обеспечение вертикали власти, в чем-то противоречащей закрепленному в Конституции РФ принципу федерализма (что не означает, естественно, необходимости упорядоченного государственного управления). Тем не менее существует мнение, что федерация как таковая для нашей страны не вполне подходит, что было бы лучше по примеру бывших советских республик выстраивать унитарную форму территориального устройства, основанную, по словам ее сторонников, на «русско-державной культурно-исторической самоидентификации» [15].
Однако именно такие рекомендации и способны, как представляется, привести к распаду России, поскольку не форма плоха, а ее содержание: например, мы до сих пор не смогли выстроить местное самоуправление, не смогли сформировать финансовое регулирование, способное сократить перекосы в региональных бюджетах, и т.п. Решение этих вопросов способно помочь наладить жизнь на местах, следовательно, снизить там напряженность, в том числе межнациональную. К тому же наш же собственный опыт показал действенность федеративного устройства в условиях большой и разнообразной территории. Да и системный анализ подтверждает, что федеративная система, полицентричное устройство большой открытой системы, каковой и выступает федерация, более устойчивы и жизнеспособны, в том числе благодаря гибкости. Другое дело, как на практике используется эта форма, насколько грамотно происходит управление на местах, насколько эффективно управление «центр-регион» и т.п. И уж, конечно, ничего хорошего самому русскому народу предлагаемая самоидентификация как «державного народа» не принесет; эта отдельная тема, но уже и так ясно, что это нарушает наши традиции [16], сокращает ресурсы и пространство, вносит внешние раздражители и пр. И когда В.В. Путин говорил, что «самоопределение русского народа - это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» [17], этот тезис стоило бы интерпретировать не как возрождение державного православного народа, соединившего вокруг себя многие этносы, как воспринимают отечественные националисты, но как синтез равноправных разных народов на единой культурной основе русскоязычия (заметим, поддержка русского языка в мире крайне актуальна), на общих невзгодах и общих победах.
Принято считать, что большие народы способны сами защитить свои права, хотя бы ввиду своей численности, но это вовсе небесспорное заключение. Конечно, давно известно, что национальные меньшинства требуют особой опеки, поскольку «во всех регионах мира продолжают сталкиваться с серьезными угрозами, дискриминацией и расизмом», как отмечено Верховным комиссаром ООН по правам человека [18]. Конференция по обзору Дурбанского процесса также с сожалением констатировала «рост на глобальном уровне и количество проявлений расовой и религиозной нетерпимости и насилия», несмотря на то что «культурное разнообразие является бесценным достоянием и способствует прогрессу и благополучию всего человечества» [19, с. 6]. Таким образом, национальная политика России должна учитывать прежний опыт и современные реалии, преследуя главную цель - благополучие и процветание всех без исключения народов, ее населяющих, на основе их консолидации.
Если сформулировать краткое определение, то государственная национальная политика -это система целенаправленных долгосрочных мер, направленных на сохранение самоидентичности государства и всех его составляющих, в первую очередь народа, с учетом внутренних мировоззренческих и иных ценностей, а также геополитических ориентиров. И хотя функция сохранения здесь имеет основополагающее значение, поскольку выработанная многими поколениями шкала ценностей играет ведущую роль, как и передача их от поколения к поколению, все же национальная политика не должна предполагать исключительно консервацию мифологем и представлений, но ориентировать общество на развитие, базирующееся в том числе на социальной справедливости, на необходимости взаимоуважения и культурного взаимообогаще-ния (это не имеет ничего общего с близорукой политикой многих европейских стран, где пришлое население уже диктует местному свои обычаи, к примеру, ношение хиджаба или паранджи; такие перегибы надо тоже учитывать, чтобы не повторять их).
Приходится признать, тем не менее, отсутствие в России в настоящее время последовательной национальной политики, отвечающей всем этим требованиям, что и приводит к тому, что мы утрачиваем все то лучшее, что было выстроено предыдущими поколениями, зачастую возрождаем прежние проблемы, порождаем, а не предотвращаем новые угрозы. Более того, недостаточная оперативность в противодействии клановой и этнической преступности, например, способна в кратчайшие сроки расшатать ситуацию в сфере межнациональных отношений в отдельных регионах, а затем и в целом по стране. Однако этому уделяется недостаточное внимание (и не то, какое следовало бы, заметим), как и росту радикальных идей, например, того же радикального исламизма в Татарстане. Приходится признать, что мы не смогли даже положить заслон отечественному фашизму [20], что само по себе чудовищно и недопустимо в стране, еще недавно (в историческом плане) победившей его ценою многих жизней в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что эта проблема замалчивается, она существует и представляет несомненную угрозу обществу, почему и требует немедленного, причем весьма жесткого, решения. Более того, отрицая все советское прошлое, мы неизбежно перечеркиваем многие наши победы и подпитываем фашистскую идеологию. Мало того, мы пропагандируем ее, ставя памятники фашистским приспешникам, например, генералу Краснову, который участвовал в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, преследующего своей целью порабощение и существенное сокращение «неполноценных народов», включая русских. Мы продолжаем восхвалять белое движение, перезахораниваем Каппеля, чествуем тех же белоказаков, забывая, что в нашей истории было и красное казачество, воевавшее в те же годы, что и Краснов, но с нашей стороны фронта.
Лишь когда прославление тех же фашистов или их пособников будет восприниматься как абсолютно недопустимое явление, немедленно пресекаться (а для этого не стоит фашистские и националистические вылазки классифицировать лишь как хулиганство, даже если преступники рядятся в форму футбольных фанатов, что нередко происходит у нас в последнее время [21]), а малейшие признаки шовинизма и ксенофобии будут сразу же предаваться осуждению и преследованию, то есть наказание за это станет неотвратимым и адекватным, можно будет говорить о том, что имеется здоровая основа для проведения такой национальной политики РФ, которая будет способна дать положительные результаты. Только тогда недавно принятая Стратегия государственной национальной политики обретет возможность быть реализованной, появится надежда на преодоление отмечаемой специалистами опасной тенденции нарастающего распада общероссийской идентичности народа по этническому признаку [22]. И только тогда у России появится шанс сохраниться как государство, преодолеть кризисные явления и процессы. Но для этого придется многое кардинально поменять, реально пересмотреть государственную политику, что в настоящее время представляется, к сожалению, маловероятным.
Ссылки и примечания:
-
1. URL: http://www.vz.ru/society/2011/12/7/544903/html .
-
2. Философский словарь / под ред. И. Фролова. М., 2009.
-
3. Несмотря на определенные периоды гонений на религию (например, «пятилетка безбожия» с 1931 г.), на неодобрение со стороны власти исповедования той или иной религии, тем не менее, нельзя сказать, что гражданам вообще запрещали отправлять религиозный культ, всегда были церкви, мечети и т.д., даже в годы активной борьбы с религией. Правда, обязывали всех детей посещать школу, несмотря на нежелание их родителей (например, баптистов), но это «вмешательство в семейную жизнь» можно считать оправданным, поскольку создавала для молодежи равные стартовые возможности.
-
4. URL: Российская газета, 2012, 18 октября, с.1, 4.
-
5. Здесь вызывает массу вопросов недавнее разрешение Синода православным священникам принимать участие в выборах в органы государственной власти (URL: http://www.rbcdaily.ru/2012/10/05/society/ 562949984864164).
-
6. Вместе с тем определенные подвижки все же можно отметить, в частности, принцип интернационализма «как тип взаимодействия на основе равноправия, взаимоуважения и сотрудничества представителей разных национальностей» вошел в «Концепцию реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве», утвержденную Правительством Москвы № 522-ПП от 22.06.2010 г., в том числе благодаря усилиям общественности, в частности, Общественного совета города Москвы. Возможно, и этим можно объяснить, почему среди московской молодежи оказалось несколько меньшая доля тех, кто в ходе уже упоминавшегося опроса ВЦИОМ считает, что в бедах России виноваты «люди нерусской национальности», - 34 % против 41 % молодежи Санкт-Петербурга, хотя и эти данные не очень-то обнадеживающие.
-
7. URL: www.minnation.senat.org/Strategia-2025/html .
-
8. Аргументы и факты. 2013. № 9.
-
9. Там же.
-
10. Конечно, это не панацея, хотя бы потому, что сам общественный контроль вызывает массу вопросов, но без этого инструмента еще хуже. Однако только Общественного совета при Президенте РФ явно мало.
-
11. Отметим, что у нас часто встречаются неверные трактовки прав человека. Например, почему-то превентивные меры в отношении возможных и даже явных правонарушителей считаются ущемлением прав человека в отношении этих самых нарушителей, тогда как это и есть обеспечение прав человека: права на неприкосновенность, на свободу вероисповедания и пр. Однако обеспечение этих прав должно быть направлено на тех, кто не нарушает прав других. Именно это принципиально: иначе говоря, нарушая права нарушителей, мы оберегаем права человека, на которые и посягают нарушители, те же националисты, разжигающие национальную вражду, а ведь национализм является лучшей подпиткой терроризма.
-
12. Подробнее см.: Социальная политика в контексте межсекторного взаимодействия / отв. ред. А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова. М., 2009.
-
13. Автономов А.С. Федерация и национальные отношения в России // Национальный вопрос и государственное строительство: проблемы России и опыт зарубежных стран (Мат-лы научн. конф.) / под ред. С.А. Авакьяна. М., 2000. С. 30-31.
-
14. Там же.
-
15. См., например: Морозов И.Л. Имперская традиция как основа эффективности национальной политики России. URL: http://en.wikipedia.org/wiki (09.08.2012).
-
16. Как бы то ни было, мы не были колониальной державой, практически все территории мирно присоединялись к нам, нам никогда не приходилось выдавливать коренных жителей с их территории, как индейцев в Северной Америке.
-
17. Независимая газета. 2012, 23 января.
-
18. Pillay N. Statement on Human Right Day, 2009, 10 December.
-
19. Конференция по обзору Дурбанского процесса. Итоговый документ. Нью-Йорк, Женева: ООН, управление Верховного комиссара по правам человека. 2010.
-
20. См.: Shenfield D. Русский фашизм: традиции, тенденции, движения. М., 2001.
-
21. Причем жесткий отпор правонарушителям и есть обеспечение прав человека, которые и нарушают так называемые «футбольные фанаты»; здесь можно вспомнить события августа 2012.
-
22. См.: Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства // Политические исследования. 2012. № 3.