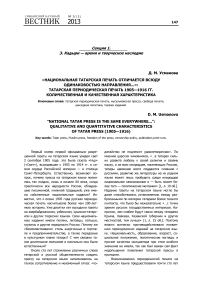«Национальная татарская печать отличается всюду одинаковостью направления...»: татарская периодическая печать 1905-1916 гг. Количественная и качественная характеристика
Автор: Усманова Д.М.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
Татарская периодическая печать, мусульманская пресса, свобода печати, цензурная политика, тиражи изданий
Короткий адрес: https://sciup.org/14113791
IDR: 14113791
Текст статьи «Национальная татарская печать отличается всюду одинаковостью направления...»: татарская периодическая печать 1905-1916 гг. Количественная и качественная характеристика
Первый номер первой официально разрешенной газеты на татарском языке увидел свет 2 сентября 1905 года: это была газета «Нур» («Свет»), выходившая с 1905 по 1914 гг. в самом сердце Российской империи — в столице Санкт-Петербурге. Естественно, возникает вопрос, почему пресса на татарском языке появилась так поздно, лишь в начале XX века, когда практически все народности России, обладавшие письменной, книжной традицией, уже имели собственные национальные издания? Известно, что к осени 1905 года русская периодическая печать насчитывала более чем 200-летнюю историю. Уже десятки лет выходили газеты на азербайджанском, узбекском, крымско-татарском и других тюркских языках. Свои национальные издания имели поляки, литовцы, латыши, грузины и другие народности России. Почему же «безмолвствовали» столь энергичные в торговле и предпринимательстве, а также передовые в культурном плане татары? С чем связано такое длительное молчание и насколько оно было естественным?
Около ста лет стремление различных слоев татарской и русской общественности создать прессу на татарском языке наталкивалось на глухое сопротивление и неизменный отказ: «хо- датайство не подлежит удовлетворению». По мнению царских чиновников, «…в татарах сильно развита любовь к своей религии и своему языку, и из всех инородцев, населяющих Россию, татары наименее всего поддаются слиянию с русскими, развитие же литературы на их родном языке может лишь пробудить среди инородцев национальное самосознание и — быть может более того — политические мечтания» [1, л. 10 об.]. Издание газеты на татарском языке могло бы даже способствовать установлению между разбросанными по империи татарами более тесного контакта, что было бы нежелательно «…с точки зрения русских государственных интересов. Напротив, чем слабее будут связи между татарами Крыма, Кавказа, Казанской губернии и других местностей, тем лучше» [1, л. 15 об.]. Поэтому власти всячески противодействовали появлению периодических изданий на татарском языке. Национальность, образование, возраст, социальное положение, политические взгляды и прочие качества инициатора при этом особого значения не имели, так как был важен сам факт недопущения появления татарской прессы в принципе.
Возникновению периодической печати на татарском языке предшествовали почти сто лет бесплодных попыток ее создания. Имея насущную потребность в национальной прессе, но получая постоянный отказ, татары пытались разрешить эту дилемму различными способами. Одним из таких способов стало издание популярных в народе календарей (календарь Рахма-туллы Амирханов 1841 г., календари Каюма На-сыри 1871—1897 гг. и Шарафутдина Шагидул-лина 1900—1917 гг.). Каким бы тиражом не издавались календари, они неизменно быстро расходились и приносили издателям большой доход. Кроме календарей, недостаток в прессе частично восполняли и альманахи литературнопублицистического характера. Самый известный среди них «Миръат» («Зеркало»), издателем и автором которого был Рашид Ибрагимов. Альманах выходил в Санкт-Петербурге и Казани в 1900—1909 гг. Хотя некоторые исследователи (М . Х. Гайнуллин, Р. У. Амирханов) считают «Миръ-ат» первым журналом на татарском языке, все же таковым он не был [2, 3].
Особо важную роль играла крымско-татарская газета «Тарджеман» («Переводчик»), выходившая в г. Бахчисарае с 1883 по 1918 гг. Современниками эта газета воспринималась как неотъемлемая часть общетюркского мира, его общее достояние. Появление газеты было невозможно без прямого участия поволжских татар: Исмаил Гаспринский предпринял ряд поездок в Нижний Новгород, Казань и другие города, где нашел поддержку своим замыслам. В Казани одобрил и поощрил план издания газеты выдающийся татарский ученый и просветитель Шигабутдин Марджани. Материальную и моральную поддержку Гаспринскому оказали татарские предприниматели Закир и Шакир Ра-миевы, позднее субсидировавшие издание в Оренбурге наиболее авторитетных татарских изданий: газеты «Вакыт» («Время») и журнала «Шура» («Совет») [4, 5].
Не имея собственных периодических изданий и испытывая в них острую потребность, татары Поволжья часто выписывали прессу на других восточных языках. Наиболее популярной и распространенной была, помимо крымско-татарской газеты «Тарджеман», также азербайджанская газета «Шаркый Рус» («Русский Восток»). Их не только выписывали и читали, в них впоследствии прошли «пробу пера» известные и маститые журналисты Фатых Карими, Закир Ра-миев, Риза Фахретдин, Камил Тухватуллин, Шакир Мухамедов. В газете часто помещались корреспонденции из таких татарских городов, как Оренбург, Казань, Чистополь, Буинск. Помимо этого казанские татары выписывали прессу из- за границы, прежде всего на турецком и арабском языках. По некоторым сведениям, накануне революции 1905 года только в Казань приходило более 200 экземпляров подобных изданий [6].
Наконец, нельзя не сказать о рукописных и гектографических изданиях, появлявшихся чаще всего нелегально в шакирдской среде в начале XX века, о которых известно по воспоминаниям. По подсчетам Р. У. Амирханова, с 1900 по октябрь 1905 года, т. е. до появления легальной татарской прессы, в различных медресе г. Казани, Уфы, Уральска и других местностей выпускалось как минимум 13 газет и 3 журнала [3]. После провозглашения свободы печати большинство из них прекратили свое существование, уступив место более профессиональным и качественным изданиям. Однако сколь бы ни была важна и значительна роль тех же календарей и сборников, рукописных и гектографических изданий, они в своей мобильности, оперативности, возможности воздействовать на значительные массы населения не могли сравниться с профессионально выполненными периодическими изданиями.
Все эти факты свидетельствуют о той острой потребности, которую татары испытывали в периодической печати в начале XX века, что было связано прежде всего с ростом национального самосознания, оживлением, обогащением общественной жизни, усилением в ней новых тенденций. Вместе с тем все это подготовило благоприятную почву для бурного роста татарской национальной прессы, который мы наблюдаем с осени 1905 года, когда была провозглашена долгожданная свобода печати. Надо сказать, что в России самодержавие традиционно относилось к печати как к милостыне, даруемой им обществу. В условиях абсолютной монархии положение печати зависит не только и не столько от законов о цензуре и печати, оно во многом определяется внутриполитической обстановкой в стране: периоды наибольшей активности освободительного движения всегда сопровождались послаблением со стороны правительства в области печати и наоборот.
В данной статье дана характеристика татарской периодической печати 1905—1916 гг., показаны основные тенденции ее развития. На основе обследования основных книгохранилищ и библиотек страны, изучения литературы и прессы того времени, а также привлечения архивных материалов на сегодняшний день удалось установить 76 татароязычных изданий , выходивших в пределах Российской империи с сентября 1905 по февраль 1917 года [9, 10]. Практически в этот же период (точнее, даже за более длительный период, с 1880-х годов и вплоть до февраля 1917 г.) на азербайджанском языке увидело свет 64 издания, на узбекском — 14, на казахском — 9 и крымско-татарском — 7.
Как видим, опасения властей были вполне обоснованы: появившаяся значительно позднее других тюркоязычных изданий (только осенью 1905 года!), татарская пресса как по количест- ву, так и по своему влиянию и авторитету практически сразу же заняла лидирующие позиции. Зачастую именно она определяла господствовавшие в мусульманском сообществе настроения и идеи.
Конечно, это не значит, что в течение 1905—1916 гг. все 76 изданий выходили постоянно и регулярно: одни издавались длительное время, другие, выпустив по одному-два или чуть больше номеров, вскоре прекращали свое существование. В выходе ряда изданий бывали вынужденные перерывы, длившиеся нередко по несколько лет. Зачастую на смену одним изданиям приходили другие. Такая судьба была у многих запрещенных властями изданий. При этом журналы отличались большей стабильностью и длительностью, что, возможно, объясняется их меньшей приверженностью ежеминутной, «сегодняшней» политической конъюнктуре. Как правило, журналы были тематическими, т. е. посвящены какой-либо одной проблеме: педагогические, женские, детские, религиозные, экономические, что позволяло им находиться в стороне от непосредственных политических событий и таким образом уберегало от репрессивных мер (штрафов, арестов и пр.) со стороны правительства.
К слову, руководство отдельных татарских газет и журналов сознательно шло на сохранение предварительной цензуры, что, по их мнению, «избавляет газету от ареста и, возможно, наложения штрафа». Поэтому, например, когда в 1911 году вновь был поднят вопрос об отмене предварительной цензуры, редакторы газет «Юлдуз» и «Кояш» обратились к председателю Казанского временного комитета по делам печати Михаилу Пинегину с убедительной просьбой не делать этого и сохранить предварительный просмотр корректурных оттисков газет «в виде личного одолжения» [11].
Динамика появления новых изданий по периодам также весьма красноречива:
-
— 1905—1907 гг. — 37 изданий (в том числе 24 газеты и 13 журналов);
-
— 1908—1916 гг. — 39 изданий (17 газет и 22 журнала).
Ослабление государства в периоды революционного подъема открывало широкие возможности для общественной инициативы, в том числе и в издательской сфере, тем более что татарская пресса дореволюционного периода имела негосударственный характер, т. е. издавалась по инициативе, на средства и при активном участии татарской общественности. Некоторые имевшиеся исключения являлись несу- щественными и не меняли общей картины. Роль государства, общественных организаций и отдельных деятелей в издании татарских газет и журналов всегда была незначительной, почти нулевой. Более того, это явное неучастие государства объясняется, с одной стороны, позицией самого государства (до Февральской революции) в отношении татарской прессы, а с другой — отношением татарской общественности к этой проблеме. Любая даже самая скромная попытка расценивалась татарами как вмешательство государства, другого народа в сугубо национальные дела, а потому воспринималась крайне негативно. Печать, как и образование, религия, являлась той сферой, которая относилась к сугубо национальным делам, а потому наиболее ревниво оберегалась общественностью от попыток государственного вмешательства.
Революция не только дала «жизнь» татарским изданиям, но и во многом определила их характер, направление. Не случайно большая часть изданий революционно-демократической ориентации появилась именно в период радикальных событий 1905—1907 гг.: «Эхбар», «Танг юлдузы», «Дума», «Азад халык», «Фикер», «Ялт-Йолт», «Урал» и др. Однако все эти издания очень быстро прекратили свое существование в основном вследствие репрессий со стороны государственных органов — практически все из названных изданий были закрыты в «административном порядке» после штрафов и ареста ряда номеров. Нельзя не согласиться с мнением Михаила Пинегина, утверждавшего, что «…ле-вые мусульманские издания эпохи 1905—1906 гг. были лишь слабым подражанием чужим образцам точно так же, как и стремление некоторых лиц втянуть народ в классовую борьбу. Так как подобные течения не имели под ногами твердой почвы и навязывались народу лишь искусственно, то они быстро исчезли вместе с повременными и неповременными изданиями, которые являлись их глашатаями» [12].
Действительно, во многих органах «революционно-демократической ориентации» было очень немного оригинальных идей и публикаций, наоборот, доминировали переводные с русского языка статьи. Со спадом революционных настроений в обществе и наступлением периода «успокоения» популярность подобных радикальных и политизированных изданий, пропагандировавших привнесенные извне, а потому чуждые идеи, вполне закономерно снизилась.
Последующий период — между двумя российскими революциями — 1905 года и Февральской 1917 года — явился периодом, когда про- исходило становление дореволюционной татарской прессы в ее самобытном национальном облике. Таким образом, татарская пресса стала тем, чем и должна была быть — выразительницей взглядов татарской общественности, «духовным зеркалом», отражающим ее настроения, мысли (зачастую эзоповым языком), мечтания и тревоги. В ней воспроизводился уровень духовного, культурного развития общества, состояние его общественного сознания.
И здесь опять хочется привести слова Михаила Пинегина, в целом достаточно верно охарактеризовавшего татарскую прессу дореволюционного периода: «Национальная татарская печать, являющаяся до некоторой степени выразительницей взглядов русских мусульман, отличается всюду одинаковостью направления и вообще вращается в одном и том же кругу идей. Идеалы и цели почти всех мусульманских периодических изданий — одни и те же, и их направление можно вообще назвать национали-стически-прогрессивным. Исключения ничтожны. Различия между изданиями заключаются не в принципах, а лишь в некоторых частных разногласиях и мелочах» [12]. Эта длинная цитата, взятая из обзора татарской периодической печати, точна по сути. Действительно, дореволюционная татарская печать удивительно «одинакова» в плане содержания, общего направления, круга освещаемых проблем и вопросов.
Дело было не только в достаточно узком круге лиц, вращавшемся вокруг изданий. По свидетельству современников, причем стоявших нередко на противоположных позициях и исповедовавших различные взгляды, общественная жизнь татар в то время была достаточно ограниченна. Об этом писал Михаил Пинегин: «Национальная жизнь татар вообще небогата содержанием». Подобную же мысль высказывал Фуад Туктаров: «Наша общественная жизнь до того бедна, что относящиеся к национальной жизни вопросы занимают в национальных газетах весьма ничтожное место. Как нет среди татар политики, так и не имеется науки и искусства, а общественность и литература стоят на очень низком уровне. В большинстве случаев наши общественные споры вращаются около трех вопросов: мектебы и медресе, муфтий и духовенство и депутаты с фракцией» [13, 14].
Действительно, именно эти вопросы — проблема образования и распространения «нового метода», деятельность Духовного собрания и положение мусульманского духовенства, деятельность (а вернее, бездеятельность) мусульманской фракции Государственной думы — яв- лялись теми проблемами, которые освещались регулярнее и чаще других. И все татарские издания освещали эти или аналогичные, близкие к ним вопросы. Более того, решение многих проблем виделось авторам в одном русле: в направлении прогресса и достижения общеевропейского уровня культуры. Примечательно, что даже издания, постоянно критикующие друг друга, говорили неизменно о благе нации и прогрессе. Именно с этой позиции они предлагали рецепты и способы решения насущных проблем. Возможно, поэтому в основном вся татарская дореволюционная пресса характеризовалась царскими чиновниками как прогрессивно-националистическая.
Практически единственная из татарских газет, по единодушному мнению царских чиновников и представителей татарской общественности, близкая к консервативным, монархическим изданиям, — это газета «Нур». Если в глазах радикальной татарской общественности это было непростительным грехом и газета «Нур» являлась постоянным объектом нападок и критики, то правительство придерживалось противоположного мнения. На взгляд чиновников ГУПа, газета «Нур» «…представляла собой единственный татарский печатный орган, соблюдавший все приличия, потребные для него в смысле спокойного руководства своих читателей в вопросах общественного и политического свойства» [15, л. 72]. Автор данного отзыва полагал, что «официальное положение, занимаемое редактором, состоящим на службе в МИД, равно как и собственное его мировоззрение, умудренное опытом предыдущей распущенности смутного времени в татарской мусульманской печати, отражается на характере его газеты, отличающейся серьезным деловым, трезвым и сдержанным в смысле отстаивания национально-религиозных татарско-мусульманских интересов, направлением, не позволявшим повода к цензурным протестам» [15, л. 71].
Все остальные издания, от умеренно-прогрессивных до леворадикальных, с точки зрения чиновников, являются оппозиционными по отношению к власти изданиями, а потому требуют бдительного контроля и надзора. Видимо, не раз они могли бы вспомнить «пророческие» слова цензора В. Смирнова, заметившего еще в 1900 году, что «…печатное слово — обоюдоострое орудие и цензуре приходится держать ухо востро в настоящее время. Прошла та блаженная пора, когда дело цензурирования мусульманских сочинений сводилось почти к одному механическому скреплению одних и тех же Ко- ранов да всякой набожно-глупой дребедени издания татарского мусульманского бумагомарания» [16].
Свобода печати прибавила государственным органам много хлопот и тревог, ибо татарская печать стала реальным фактором, неотъемлемой частью общественной жизни и настоящей головной болью государства, видевшего в ней «оппозиционера», «смутьяна», хотя и неизбежное, но все же зло.
Оппозиционность татарской прессы, хотя и была несколько преувеличенной, однако существовала в действительности. И в этом не было ничего удивительного. Она была результатом национальной политики самодержавия, стремившегося к массовой русификации всего инородческого населения, априорно негативно относившегося к любым изменениям в жизни татар и видевшего в них потенциальную опасность для российской государственности. Основным лозунгом татарского общества в это время было стремление к прогрессу, к освоению достижений мировой и российской культур с целью поднятия уровня своего народа, приближения его к мировым и европейским стандартам и образцам. Эта эволюция татарского общества, его движение к прогрессу должны были сочетаться с сохранением лучших исконных мусульманских традиций, с сохранением и развитием национальной самобытности. Таким образом, цели государственной идеологии и татарские национальные идеи были различны, даже противоположны, что не могло не вызвать между ними конфликта. Безусловно, государство было гораздо сильнее и для своей защиты нередко применяло репрессивный аппарат в виде цензуры, предварительной и карательной, штрафов, ареста, конфискации и уничтожения отдельных номеров, запрещения издания в целом и судебного преследования его издателей-редакторов.
Конечно, репрессии властей — не единственная причина кратковременности существования многих татарских изданий дореволюционного периода. Практически все газеты и подавляющее большинство журналов являлись частными изданиями. Выпуск газеты и журнала был дорогостоящим процессом. Далеко не у всех хватало материальных возможностей для длительного издания периодического органа. Нередко, начав издательское дело, инициаторы вскоре вынуждены были распроститься с этой слишком обременительной для себя идеей. К февралю 1917 года из 76 изданий продолжало выходить лишь 17 (10 журналов и 7 газет). Это газеты «Вакыт», «Юлдуз» (с 1906 г.), «Кояш»
(с 1912 г.), «Тормыш», «Ил» (с 1913 г.); журналы «Шура» (с 1908 г.), «Анг» (с 1912 г.), «Сеем-бикэ» (с 1913 г.) и др. Именно эти издания были наиболее авторитетными, влиятельными, имели стабильную и широкую читательскую аудиторию, достаточно хорошую материально-техническую основу, прочный фундамент для своей деятельности.
Одним из наиболее чутких барометров востребованности мусульманских изданий являлись их тиражи. Данные о тиражах мусульманских дореволюционных изданий можно рассматривать в нескольких плоскостях: в сравнении с аналогичными показателями общероссийской (русскоязычной), национальной (не мусульманской) и, наконец, во внутренней динамике. Последнее наиболее корректно и информативно.
Из мусульманских изданий как по количеству, так и по тиражам лидирующие позиции занимали азербайджанские и татарские издания: тираж одного из самых популярных кавказских журналов «Молла Насреддин» колебался от 2500 (1908—1909) до 2800—3000 (1912—1913) экземпляров. Самыми многотиражными были такие азербайджанские издания, как «Икбал» (4000 экз.), «Садаи хак» (3400) и «Таза хабар» (3500). Средние тиражи остальных колебались в районе 1000—1500 экземпляров. К 1913 году налицо было определенное сокращение количества наименований изданий при одновременном увеличении тиражности уцелевших [17, 18].
Аналогичная ситуация была и с большинством татарских изданий, тиражи которых колебались в районе 1000 экземпляров. Лидирующие позиции занимали две газеты: «Вакыт» и «Юлдуз». В 1910—1913 гг. их тиражи выросли соответственно с 3600 до 5000 («Вакыт») и с 2400 до 4500 («Юлдуз») [19].
Но главное — даже не абсолютные показатели тиражей этих газет, а, во-первых, упомянутый количественный рост и, во-вторых, особенность этих двух изданий, которая позволяла им не только регулярно выходить (обе газеты были ежедневными), но и сохранять постоянный круг читателей. Обе газеты являлись самыми влиятельными и популярными из всей татарской дореволюционной прессы. Но влияние это имело разную основу. Газета «Юлдуз» добилась его благодаря исключительно популярному языку своих публикаций, «Вакыт» — умеренностью позиции, некоей почтенной респектабельностью. Это позволяло ей прочно удерживать свою главенствующую позицию, «быть тем центром, вокруг которого группировалась вся мусульманская пресса» [20]. При этом оба издания не имели ярко выраженной партийной окраски, даже избегали ее, стремясь остаться прежде всего национальным изданием прогрессивного направления. Именно прогрессивность вкупе с умеренной оппозиционностью заложили фундамент стабильности названных периодических органов и являлись самыми частыми характеристиками со стороны цензоров. Те издания, чья политическая физиономия была выражена более очевидно — будь то социалистические издания, условно «монархические» («Нур»), «октябристские с национальной окраской» («Тард-жеман»), наоборот, постепенно «угасали» (что отразилось на численности подписчиков и невысоких тиражах — от 500 до 1800) и уступали свое место так называемым прогрессивным умеренно-либеральным изданиям типа «Вакыт».
Важно также, что читательская аудитория у мусульманских периодических изданий была в целом достаточно малочисленна. Об этом свидетельствуют сравнительно невысокие тиражи изданий (особенно в сравнении с общероссийским показателем). Татарская пресса была ограничена примерно одним кругом образованных и постоянно нуждающихся в информации и интеллектуальной пище читателей.
Например, к 1911 году место безусловного лидера, долгие годы прочно удерживаемое изданием «Тарджеман» [20, л. 393 об.—406] и к этому времени оказавшееся «вакантным», заняла газета «Вакыт», успевшая за несколько лет зарекомендовать себя как солидное издание. Однако и сама «Вакыт» выросла на той благодатной почве, что была подготовлена Исмаилом Гаспринским. Мы считаем, что уместным является сравнение мусульманских периодических изданий начала века со своеобразными «сообщающимися сосудами», которые, имея одну «кровеносную систему», взаимодополняли друг друга и составляли единое целое.
В заключение хотелось бы сказать, что сейчас уже настало время для появления работ, которые с опорой на предшествующую традицию, а также с привлечением новой источниковой базы (прежде всего архивных материалов) отразили бы новую историю мусульманской прессы России рубежа XIX—XX столетий.
-
1. Российский государственный исторический архив Российской Федерации (далее — РГИА). Ф. 776. Оп. 12. 1894. Д. 14.
-
2. Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала ХХ века. Казань, 1966.
-
3. Амирханов Р. У. Татарская дореволюционная пресса (в контексте «Восток — Запад»). Казань, 2002. 240 с.
Список литературы «Национальная татарская печать отличается всюду одинаковостью направления...»: татарская периодическая печать 1905-1916 гг. Количественная и качественная характеристика
- Российский государственный исторический архив Российской Федерации (далее -РГИА). Ф. 776. Оп. 12. 1894. Д. 14.
- Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала ХХ века. Казань, 1966.
- Амирханов Р. У Татарская дореволюционная пресса (в контексте «Восток -Запад»). Казань, 2002. 240 с.
- Национальный архив Российской Федерации (далее -НАРТ). Ф. 1. Оп. 3. Д. 5184. Л. 42-50.
- Климович Л. На службе просвещения//Звезда Востока. 1987. № 8.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 14. 1908. Д. 87. Л. 44.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 15. 1905. Д. 131. Л. 9.
- РГИА. Ф. 1238. Оп. XVI. Т. I. Л. 36-38.
- Гайнанов Р. Р., Марданов Р. Ф., Шакуров Ф. Н. Татарская периодическая печать начала ХХ века: Библиогр. указ. Казань, 2000. 316 с.
- Usmanova Diliara. Die Tatarishe Presse 1905-1918: Quellen, Entwicklungsetappen und Quantitative Analyse. In: Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Islamkundliche Untersuchungen. Band 200. Klaus Schwarz Verlag. Berlin, 1996. S. 239-278.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1906. Д. 492. Л. 28-29.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1916. Д. 123; Ч. I. Л. 143-144.
- Юлдуз. 1915. 23 окт. (№ 1536).
- НАРТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1299. Л. 6.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 471, 2198.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. I. Д. 471. 1900. Л. 23-23 об.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1909. Д. 217. Л. 2, 16.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1914. Д. 418. Л. 272.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1915. Д. 221.
- РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1912. Д. 1. Ч. II. Л. 386-448.