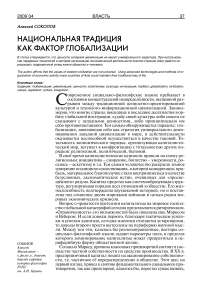Национальная традиция как фактор глобализации
Автор: Соколов Алексей Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и общество
Статья в выпуске: 5, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье утверждается, что ценности западной цивилизации не имеют универсального характера. При использовании передовых технологий и методов организации экономической деятельности многим странам Азии удаётся не разрушать традиционного уклада жизни общества и человека
Традиция, глобализация, цивилизация, ценности, капитализм, культура, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170164850
IDR: 170164850
Текст научной статьи Национальная традиция как фактор глобализации
С овременное социально-философское знание пребывает в состоянии концептуальной неопределённости, вызванной разрывом между традиционной ценностно-ориентированной культурой и технолого-информационной цивилизацией. Закономерно, что многие страны, вошедшие в последние десятилетия в орбиту глобальной интеграции, судьбу своей культуры либо совсем не связывают с западными ценностями, либо принципиально им себя противопоставляют. Тем самым обнаруживается парадокс: глобализация, заявляющая себя как стратегия универсального доминирования западной цивилизации в мире, в действительности оказывается неспособной осуществиться в качестве таковой. Тотальность экономического порядка, организующая капиталистический мир, вступает в конфронтацию с тотальностью других порядков: религиозной, политической, бытовой.
В своё время капиталистические ценности пришли на смену религиозным: инициатива – смирению, богатство – умеренности, роскошь – аскетизму и т.д. Тем самым человечество раскрыло земное измерение подлинного существования, в котором конкуренция, прибыль, материальное благополучие стали восприниматься в качестве безусловных, аксиоматических истин, очевидных для «просвещённого» разума. Капитал предстал как системообразующая структура, регулирующая порядок всех отношений в обществе. Его жизнеспособность подтверждена двухвековой историей, но и поставлена под сомнение двумя мировыми войнами и целым рядом мировых экономических кризисов.
СОКОЛОВ
Алексей
Михайлович – к.филос.н., доцент; доцент кафедры истории философии РГПУ им. А.И. Герцена
Вопрос о чреватости претензии капитализма на мировое господство глобальной катастрофой сегодня представляется риторическим. «Ограниченность» его возможностей была показана еще Марксом и Вебером. И если доводы первого, благодаря тактическим усилиям и успехам капитала, сегодня многими считаются устаревшими, то доводы второго просто вытеснены на периферию научной мысли. Между тем эти, казалось бы разнонаправленные, векторы социально-философской мысли задают параметры поля, в пределах которого доминирование капитализма может превратиться в периферийную форму общественной жизни.
Согласно Марксу, причина классовых противоречий состоит в господстве частной собственности на средства производства. В ХХ в. предприимчивый капитал пошёл на акционирование собственности, т.е. частичное её перераспределение в обществе. Этот шаг, на первый взгляд, привел к снятию фундаментального социального противоречия, так как пролетариат, казалось бы, перестал существовать, превратившись в собственника, и капитал избавился от своего могильщика. В действительности же внутригосударственное расслоение планомерно перешло в дифференциацию по государственному признаку. Образовалась группа «развитых» государств, в той или иной форме контролирующих средства производства по всему миру, соответственно получающих прибавочную стоимость в планетарном масштабе. Остальные страны попали в разряд государств, находящихся в различной степени зависимости от политики «экономической метрополии». Фактически можно говорить «пролетариат-нациях» и «капитал-нациях». Это означает, что всё, принадлежащее «пролетариат-нациям» (трудовые и сырьевые ресурсы), оценивается несоизмеримо ниже того, что принадлежит «капитал-нациям» (техника, технологии, финансы). Как следствие, разрыв между уровнями благосостояния всё время увеличивается.
С другой стороны, важно понять и внутреннюю причину неспособности большинства наций занять высокое место в мире господствующего капитала. Установление связи протестантской этики с духом капитализма можно считать таким же важным социологическим открытием, как и установленнное Марксом противоречие между трудом и капиталом. Протестантизм, выражающий крайнюю стадию секуляризации христианства, предопределил принципы буржуазно-капиталистических отношений. Великобритания, Германия, США с самого начала заявили себя лидерами в движении Запада к установлению торгово-промышленной диктатуры. С высокой степенью достоверности можно утверждать, что вхождение других стран в «лидирующую» группу не в последнюю очередь обусловлено одним из двух обстоятельств. Первое: близость некоторых собственных культурных принципов с протестантскими нормами. Второе: постепенное проникновение (даже внедрение) последних в духовное пространство той или иной нации.
В самой Европе страны, избежавшие прямой протестантской экспансии, экономически уступают тем, чей культурный горизонт очерчен протестантизмом. Видимо, не случайно и то, что наиболее радикальные формы духовно-идеологической реакции на Западе вспыхивали в католических странах: Италии, Испании.
Даже корни немецкого национал-социализма находились в наименее протестантской области Германии – Баварии. Столетие социально-политической нестабильности в Латинской Америке – не вызвано ли оно органической неприязнью чилийцев, боливийцев, венесуэльцев, кубинцев и других народов к ценностям, насаждаемым миром капитала, пропитанным духом протестантизма?
На рубеже ХХ и ХХI вв. человечество вошло в новую фазу кризиса. Система капитала, по-видимому, достигла пределов продуктивного доминирования. Свидетельством тому служит не только нынешний финансовый кризис, но и общие тенденции мирового развития. Страны, которые еще два-три десятилетия назад считались отсталыми и бесперспективными в плане активного участия в мировой интеграции, сегодня демонстрируют завидные экономические достижения и заявляют о претенциозных планах в сфере социальной политики. Самым же существенным свойством этого события является то, что большинство из них стремятся избавиться от прямого и косвенного влияния США и других «развитых» стран.
При использовании передовых технологий и методов организации экономической деятельности этим странам удается не разрушать традиционный уклад жизни общества и человека. Всё более очевидным становится то обстоятельство, что эффективная экономика не обязательно должна быть капиталистической; что рынок – механизм, приемлемый только при капиталистическом производстве, распределении, потреблении. Правда, нельзя исключать значимость вклада капитализма в развитие производительных сил. В конце концов, правомерно допустить и даже признать, что именно высокая степень совершенства технологий, достигнутая во многом благодаря системе капитала, и предпослала саму возможность развития самобытных экономических культур. А успешно действующая «модернизированная экономика» способствует теперь сохранению не только экономической, но и политической, и идейной независимости стран, народов.
Таким образом, открытие Марксом зависимости формирования наций от степени внутренней экономической интеграции находит подтверждение на новом уровне. Другое дело, что экономическое со- держание жизни общества сегодня уже не может рассматриваться как определяющее, а только как инициирующее или стимулирующее. Возрастающая в мире роль Индии, Китая, Ирана, Бразилии, арабских стран по-новому заставляет взглянуть на проблему национального самоопределения. Мировоззренческая оппозиция Западу, как правило, зарождается на почве национальной идеологии и обусловлена религиозным влиянием (исламский национализм). Всё это позволяет предположить, что кризис современности вызван появлением нового типа субъектов исторического процесса, а значит, новым видом социального противоречия, стимулирующего развитие человеческого общества.
XVIII в. был эпохой противостояния аристократии и буржуазии, XIX – начало XX в. – эпохой борьбы буржуазии и пролетариата. Вторая половина XX в. стала периодом зарождения и формирования национально-государственных образований, способных утвердить свою политическую, экономическую, культурную независимость. Трудности и неудачи этого процесса можно объяснить, во-первых, общим фоном мировой политики тех лет – холодной войной капиталистической и социалистической систем, во-вторых, интеллектуальной гегемонией западной цивилизации.
Исторический опыт показал, что социально-политический (классовый) подход к пониманию содержания национальной культуры не более эффективен, чем социально-экономический. Даже страны, наиболее удачно воспринявшие капиталистическую или социалистическую экспансии, в конце концов пришли к специфическим моделям социального развития. Пытаться дифференцировать Вьетнам, Чили, Индию, Венесуэлу, Китай, Бразилию, Иран по классовой мерке – значит, упускать из виду наиболее существенные признаки их развития.
Становление национальных идеологий обнаружило себя в идейных поисках европейской духовности. Осмысление национальной составляющей в системе социокультурных отношений осуществлялось в русле просвещенческой интеллектуальной доктрины, подчинённой идее секуляризации культуры (Вольтер, Руссо, Гегель). После Вестфальского мира 1648 г. была де-юре принята принципиально новая стратегия государственного устрой- ства. Конструирование светских национальных государств, опирающихся на гражданское общество, стало всеевропейским воплощением формально-юридического представления о нации. Содержательная сторона таких воззрений дополнялась представлением о нации как о культурно-языковой общности, как о единстве, достигаемом благодаря консолидирующему началу общего языка, общих нравов, обычаев, традиций (Гердер). Генерирующая же энергия перечисленных форм виделась исходящей от разума. Позже Маркс, введя принцип зависимости содержания общественного сознания от уровня производительных сил, представил процесс образования наций как очередную стадию развития производственных отношений, единство экономической жизни людей, регулируемое товарно-денежными отношениями.
Другой тенденцией можно считать направление, реализовавшееся в трудах Чемберлена и его последователей. Расовая теория является результатом последовательного развития идей дарвинизма, утверждающего, что сознание есть результат эволюционирования живых организмов. Родство марксистской и расовой концепций с классическим просвещенческим пониманием сути национального обнаруживается в тенденции к дедуцированию всего богатства содержания действительности из одного принципа, что является превращённой формой новоевропейского трансцендентализма. На косвенную причастность марксизма и расизма к трансцендентализму указывает и то, что оба толкования проблемы требовали практической реализации в виде решения практических задач.
Неудача «просвещенческого» проекта заставляет искать его решение на иных путях. История мировой мысли знает примеры других подходов к пониманию сущности нации и национальной культуры. На Западе они восходят к концепциям О. Шпенглера, А. Тойнби; в России – К.Н. Леонтьева, Н.С. Трубецкого, других евразийцев. «Религиозная идея занимает главное место в культурном пространстве», – так упрощённо можно определить общий смысл их первичной интуиции. В наше время этот тезис сформулирован так: «Религия образует специфическую форму социальной интеграции разнородных этических и культурных начал, которые дей- ствуют в масштабах большого пространства и большого времени» (А.С. Панарин).
Казалось бы, подобный подход умаляет значимость национального элемента, ведь этноцентрическая напряжённость не может порождать универсальные отношения, в то время как религиозная доминанта «способствует ослаблению и преодолению связи человека с локальной природной и социальной средой», стимулируя установление универсальной связи между собой и миром через абсолютный ориентир. Но, как верно замечал А.С. Панарин, «национальное не тождественно этнографическому…». Другими словами, «национальное» в широком смысле преображает тенденции народной стихии, рассыпающейся на элементарные этнографические локусы-реликты.
Что стоит за таким преображением?
Обращение к религиозно-церковным основаниям в общепринятом смысле вряд ли будет иметь конструктивное развитие после критицизма Просвещения и «деконструкции» постмодерна. С другой стороны, трансформация классовых противоречий обнаружила антиуниверсализм экономического доминирования. Тогда где же искать основания действительной духовной власти, способной вызвать подлинную веру? То есть, такую веру, которая в состоянии сплотить в одно целое «большое пространство» и «большое время».
Двадцатое столетие показало, что, пожалуй, только переживание исторического прошлого как общей реальности может сплачивать людей в единое целое. Постижение человеческого существования как бытия во времени предопределило характер переосмысления всего порядка сущего. В горизонте подобного миросозерцания «национальное» оказывается конкретным выражением трансцендентного. Именно в этом смысле можно утверждать, что национальная традиция сегодня актуализируется как первичная интуиция, полагающая себя в основании системы представлений о мире как историческом измерении сущего.
Следовательно, определение содержания понятия «национальная традиция» в контексте развития философского знания и в соответствии с характером современной действительности оказывается одной из ключевых задач современного социальнофилософского знания. Тем более что процесс формирования нации совсем не обя- зательно завершается положительным результатом, ибо не каждая общность людей, называющая себя нацией, может считаться таковой. Это значит, что её статус должен быть подтверждён, по крайней мере, устойчивостью и самодостаточностью. Другими словами, нация заявляет о себе только через длительное воспроизводство и «исповедание единых смыслообразующих принципов, единых представлений о подлинном, достойном и оправданном высшими целями существования человека в мире». Что условно можно обозначить как традицию.
Французы, немцы, англичане и прочие при таком подходе входят в единую европейскую традицию, вышедшую из католического христианства, пережившую Реформацию, Просвещение, промышленную и научно-техническую революции. Идея «неделимости» европейцев находится в самом истоке теоретического самосознания Запада. Начиная с Гердера и Гегеля, Запад мыслился в одном духовном пространстве, в одной духовной традиции. Даже стремление европейцев к национальному обособлению в XVIII–XIX вв. уже к середине ХХ в. исчерпало себя. История практически продемонстрировала трагическую несостоятельность усилий, направленных на произвольное реформирование социокультурного пространства Европы. Тем не менее период «национального самоопределения» сыграл и положительную роль в европейской истории, позволив тематизировать один из важнейших факторов общественного развития. В конце концов, не что иное, как национальный колорит, привнесло в западное христианство содержание, послужившее толчком к радикальному превращению этого культурного пространства.
Сегодняшняя интенсификация интеграционных процессов в западном мире наглядно иллюстрируют реализацию исходной интуиции западноевропейской культуры. «Единая Европа» – это действительно организующий концепт. Тем не менее его продуктивность ограничивается теми социокультурными образованиями, которые в силу объективных причин не могут стать участниками этой интеграции. Пример России наиболее очевиден, но он не единственный. То же самое можно, скорее всего, сказать о Беларуси, Украине, Молдове, Армении, Грузии. Их место в европейском союзе вряд ли определимо даже при той отчаянной политической, идеологической и экономических экспансии, которую они испытывают со стороны евроатлантической «метрополии».
В то же время самодостаточное существование любого из собственно западных государств, по всей видимости, маловероятно. Жизненная сила и политический статус каждого из них обусловлены не собственной, внутренней интенцией, а напряжением, которое создаётся во взаимодействии с другими национально-политическими образованиями и их совместным противостоянием, в котором Европа сегодня открылась другим традици- ям. Наиболее острым из них можно считать столкновение с арабским миром. Кстати сказать, последний, будучи более монолитным и в расовом, и в культурном плане, всё же знает разделение на сирийцев, алжирцев, палестинцев, иракцев и т.д. Примерно то же самое можно сказать по отношению к латиноамериканскому миру и миру Юго-Восточной Азии. Всё это позволяет предположить, что нация, национальная культура имеет в своём основании нечто более глубокое и универсальное, нежели совокупность зачастую внешних признаков. Именно это и можно опознать как «национальную традицию».