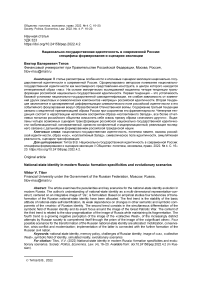Национально-государственная идентичность в современной России: специфика формирования и сценарии эволюции
Автор: Титов Виктор Валериевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности и ключевые сценарии эволюции национально-государственной идентичности в современной России. Сформулировано авторское понимание национально-государственной идентичности как многомерного представления-конструкта, в центре которого находится интегративный образ «нас». На основе эмпирических исследований выделены четыре тенденции трансформации российской национально-государственной идентичности. Первая тенденция - это устойчивость базовой установки национально-государственной самоидентификации, ее слабая зависимость от изменений других смысловых и символических компонентов «матрицы» российской идентичности. Вторая тенденция заключается в одновременной дифференциации символического поля российской идентичности и его событийного фокусирования вокруг образа Великой Отечественной войны. Содержание третьей тенденции связано с медленной прагматизацией образа России при сохранении его фрагментарности. Четвертая тенденция состоит в нарастающем негативном восприятии образа «коллективного Запада», все более отчетливых попытках российского общества осмыслить себя сквозь призму образа «значимого другого». Выделены четыре возможных сценария трансформации российской национально-государственной идентичности: мобилизационный, консервативный, кризисно-конфликтный и модернизационный; реализация последнего связана с дальнейшим формированием российской гражданской нации.
Национально-государственная идентичность, политика памяти, вызовы российской идентичности, образ "нас", "коллективный запад", символическое поле идентичности, симулятивная реальность, сценарии трансформации
Короткий адрес: https://sciup.org/149139868
IDR: 149139868 | УДК: 323
Текст научной статьи Национально-государственная идентичность в современной России: специфика формирования и сценарии эволюции
Проблема российской национально-государственной идентичности занимает одно из заметных мест в отечественной политической науке. Ее острота особо проявилась в конце 1990-х -начале 2000-х гг., когда широко распространилось мнение о кризисном характере развития российской идентичности: ее частичном разрушении под влиянием внутренних деструктивных процессов и внешнего вмешательства. Сегодня широкий спектр вопросов, связанных с национально-государственной идентичностью, особенностями ее кристаллизации в современном российском обществе хотя и утратил былую идеологическую конфликтность, тем не менее представляется важным в разрезе более глубокого осмысления процессов социокультурной и политико-психологической трансформации российского общества.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемая проблематика в целом характеризуется высоким уровнем научной разработанности. На основе классических теорий идентичности в постсоветской России сформировались собственные школы идентитарных исследований, ориентированные на детальное изучение специфики той модели национально-государственной идентичности, которая поэтапно формировалась в Российской Федерации, эклектично сочетая в себе как разнообразные ценностно-смысловые сюжеты прошлого (и советского, и имперского, и даже более раннего), так и противоречивые тенденции новой политической эпохи. К наиболее заметным трудам в данной области можно отнести работы О.Ю. Малиновой (Малинова, 2020), Т.В. Евгеньевой (Евгеньева, 2012), Л.М. Дробижевой (Дробижева, 2018), В.С. Комаровского (Комаровский, 2015) и ряда других отечественных исследователей.
Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что до сегодняшнего времени в рамках отечественных идентитарных исследований сохраняется и определенная лакунарность. Она связана как с теоретическими аспектами, прежде всего необходимостью структурной и факторной опера-ционализации понятия «национально-государственная идентичность» как эволюционирующего макрополитического феномена, так и с периодизацией и выделением ключевых сценариев трансформации национально-государственной идентичности в постсоветской России.
В рамках данной статьи считаем уместным использовать следующее определение: национально-государственная идентичность являет собой многомерное представление-конструкт, в центре которого находится «образ “мы” как воображаемого сообщества, поддерживаемый посредством института государства и политико-культурной традиции государственности» (Титов, 2017: 25).
Поясним данное определение, обозначив два существенных момента. Во-первых, важно, что в определении речь идет не только о государстве как институциональной первооснове формирования и закрепления полноценной национально-государственной идентичности, но и о политико-культурной традиции государственности как важном факторе ее становления. Во-вторых, акцент на многомерности подчеркивает, что данный феномен может рассматриваться в нескольких взаимосвязанных измерениях: личностном, сегментарном (на уровне больших социальных общностей, проживающих в стране), общественном, государственно-политическом. В последнем случае речь идет о государственном проектировании и проводимой политике идентичности. Такая политика понимается как целенаправленная, долгосрочная деятельность, ориентированная на формирование устойчивой модели идентичности (причем не обязательно гражданского типа), отвечающей запросам общества, его ценностно-символическим основаниям и сложившимся в нем массовым историческим представлениям. Во-вторых, методологически оправданным является рассмотрение национально-государственной идентичности с позиций социального конструктивизма и современных концепций политической психологии. То есть она интерпретируется не как одномерный аффективный феномен (эмоция, установка, «чувство» и т. д.) или инвариантная моноцентричная структура («архетип», «цивилизационный код»), а именно как многомерное и динамическое представление-конструкт.
Эмпирической базой указанной работы выступают результаты двух сопряженных исследований: «Политико-психологические механизмы формирования национально-государственной идентичности в современной России» (ноябрь 2011 г. - сентябрь 2012 г., серия формализованных интервью: 432 респондента из 16 субъектов Российской Федерации; руководитель - Т.В. Евгеньева) и «Национально-государственная идентичность в России» (январь - май 2017 г., серия формализованных интервью: 315 респондентов из 22 субъектов Российской Федерации; координатор - В.В. Титов; исследование носило преимущественно диагностический политико-психологический характер).
По нашему мнению, опираясь на указанные исследования, следует заострить внимание на четырех базовых тенденциях , характеризующих специфику трансформации национально-государственной самоидентификации российских граждан в современный период.
Первая тенденция связана с относительной устойчивостью базовой установки национально-государственной самоидентификации («россиянин», «гражданин России», «житель России») вне зависимости от политической динамики и флуктуаций иных компонентов идентификационной «матрицы»: образов «нас», «значимых других», власти темпоральных представлений. Так, по данным исследования 2012 г., 43 % респондентов, отвечая на открытый вопрос «Для Вас важно, что Вы являетесь... (кем именно)?», упоминали в числе прочих национально-гражданскую идентификацию «гражданин России». При этом 23 % опрошенных отметили этнокультурную идентификацию «русский». В 2017 г. респондентов, указавших свою гражданскую принадлежность в ходе аналогичного опроса, было 47 %. Данные об устойчивости и несомненной важности гражданского компонента в структуре российской идентичность подтверждаются также результатами лонгитюдных исследований ВЦИОМ (табл. 1 ) 1 .
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы ответили сами себе на вопрос “Кто я такой?”?» (закрытый вопрос, не более 3 ответов), %
|
Вариант ответа |
2005 г. |
2010 г. |
2014 г. |
2016 г. |
|
Гражданин России |
60 |
58 |
63 |
59 |
|
Просто сказал бы «человек» |
29 |
30 |
21 |
31 |
|
Житель своего региона, города, села |
16 |
18 |
24 |
16 |
|
Назвал бы свою национальность (русский, украинец и т. п.) |
19 |
19 |
20 |
15 |
|
Советский человек |
7 |
17 |
14 |
14 |
Вторая тенденция , которая также представляется важной, связана с условным двойственным эффектом «дифференциации – центрирования» символического поля российской идентичности. Расширение символов России, прежде всего за счет географического пласта (Байкал, остров Русский, Эльбрус, Енисей и т. д.), соседствует с абсолютно уникальным – доминирующим – местом Великой Победы в событийно-символическом пантеоне современной России. Именно День Победы обрел в сознании россиян черты не только наиболее значимого, но и доминирующего национального праздника: 95 % респондентов назвали это событие наиболее важным в российской истории ХХ в., 69 % – важнейшим во всей российской истории2.
Третья тенденция обусловлена трансформацией пространственного образа России – восприятия границ «нашей» территории в системе паттернов самоидентификации россиян. Так, результаты опроса, проведенного в 2012 г., свидетельствуют, что в России сложились четыре социальных сегмента: условные «империалисты», говорящие о необходимости расширения Российской Федерации до пределов Российской империи – СССР (примерно 15 %); «интеграциони-сты», считающие возможным присоединение к России в будущем ряда культурно близких ей территорий (до 25 %); автономисты, для которых «их» Россия ограничивается собственным городом или регионом (не более 10 %); «реалисты», у которых личностные представления о территории России в целом совпадают с нынешними государственными границами нашей страны. Доля последних возросла с 42 % в 2012 г. до 53 % в 2017 г., что свидетельствует о медленной прагмати-зации пространственного образа России в политическом сознании граждан.
Четвертая идентификационная тенденция связана с серьезной трансформацией образа «значимого другого», квинтэссенцией которого выступают США и «коллективный Запад» (Андреев, 2009: 118). Если в 2000-е гг. речь шла скорее о «прохладных» отношениях к западным странам, то в 2015–2017 гг. эти отношения на фоне политического кризиса 2014 г. на Украине, последовавшей вслед за этим «Крымской весны» и санкционного давления на Россию стали восприниматься в сугубо негативном ракурсе, преимущественно как враждебные.
Таким образом, вполне оправданно говорить о неравномерности становления национально-государственной идентичности в «новой» России: очевидный ее кризис в 1990-е гг. сменился вторым этапом, который может быть обозначен как реставрационно-модернизационный (2001–2013 гг.). Он характеризовался двумя параллельными процессами. С одной стороны, в обществе продолжали активно присутствовать и тиражироваться ностальгические мотивы (от СССР 2.0 до «Пятой империи»), на первый план вышли патерналистские политические ценности, вытекающие из императива «сильного» государства во всех его проявлениях (от сильной власти, способной «навести порядок» внутри страны до восстановления статуса великой державы).
С другой стороны, в это же время обращает на себя внимание и тенденция постепенного «принятия» России в ее современной конфигурации: политической, экономической, территориальной.
Проведенный анализ проблемы позволяет говорить, что в отечественной политической науке не сложилось четкого представления о возможных сценариях эволюции российской национально-государственной идентичности. Вместе с тем считаем возможным контурно очертить четыре основополагающих сценария трансформации российской национально-государственной идентичности в обозримой перспективе (до 2030 г.).
Первый сценарий может быть условно определен как умеренно-консервативный , или инерционный. Он базируется на пролонгации соответствующих трендов массового сознания 2017-2022 гг.: социальной апатии, невысокого уровня доверия к ключевым политическим институтам, последовательной ориентации на персоналистскую модель власти (и соответственно, устойчиво высокий уровень одобрения деятельности Президента России В.В. Путина). Логика данного сценария состоит в продолжении ретроспективного тренда государственной политики идентичности , когда акцент делается не на выстраивании рельефного и внутренне вариативного образа будущего, а в большей мере на воспроизводстве конвенциональной модели политики памяти и сопутствующих ей исторических нарративов, активно и последовательно транслируемых государством.
Второй сценарий может быть охарактеризован как деструктивный или кризисно-конфликтный . Его актуализация возможна в случае нарастания кризисных тенденций развития политической системы России, усиления социально-экономических и идеологических противоречий в обществе. В этом случае нельзя исключать вероятность частичного «обратного транзита» к состоянию 1990-х гг., когда ценностный вакуум и отсутствие у государства какой-либо стратегии реализации политики идентичности сопровождались утратой темпоральных ориентиров россиян: неопределенностью и негативизацией представлений о прошлом и будущем страны. Вероятность его реализации невысока, но не может быть признана «нулевой» в условиях все возрастающего внешнеполитического, экономического и информационного давления на Российскую Федерацию.
Одним из триггеров (но, как нам представляется, не ключевым) данного сценария может выступить кризис традиционных - устойчивых - идентификационных конструктов на фоне формирования симулятивной реальности и связанных с ней «плавающих» (подвижных) идентичностей - транснациональных и ситуативных состояний «мы - самоидентификации», связанных не с устойчивыми ценностно-символическими системами, а с флуктуацией политических настроений в обществе. Следствием распространения такого вида реальности является частичная «утрата» основополагающих смыслов самоопределения в контексте «Я» и «Мы», психоэмоциональная перегрузка и нарастающий конфликтный уклон политической «повестки дня». Наблюдается «стирание» национально-государственной идентичности - утрата субъективной значимости перед лицом иных, более динамичных, привлекательных и эмоционально выразительных конструктов «цифрового мира».
Третий сценарий эволюции российской национально-государственной идентичности, который также представляется весьма вероятным, - мобилизационный . Его ценностно-смысловым фундаментом является механизм консолидации общества на основе образа «врага», частичный отказ от формирования общенационального образа будущего в пользу конфликтных сюжетов прошлого. Можно заметить, что в самом общем виде данный сценарий коррелирует с относительно пессимистическим сценарием развития России, который обсуждался в российском политологическом сообществе ранее и получил название «осажденная крепость».
Четвертый сценарий связан с формированием российской гражданской нации , утверждением модели национально-государственной идентичности, в основе которой будут находиться конвенциональная модель государственной политики памяти, направленная на установление темпорального баланса между различными историческим эпохами. Его реализация представляется возможной в долгосрочной перспективе в случае синергии нескольких благоприятных социально-экономических и политических факторов. К таковым в первую очередь относятся выход российской экономики из фактической стагнации и рост благосостояния населения, модернизация системы общего образования (что позволит повысить эффективность школы как одного из центральных институтов первичной и вторичной политической социализации), рост уровня доверия к властным институтам. При том, что указанный сценарий не представляется на данный момент наиболее вероятным (многие исследователи в принципе воспринимают его скептически), можно выделить три его конкурентных преимущества с точки зрения перспектив реализации:
-
- формирование в Российской Федерации в 2000-2010-е гг. относительно стабильных институциональных оснований политической системы и механизмов государственной политики памяти, устойчивость конфигурации действующей власти;
– аккумулированный в 2000–2010-е гг. позитивный опыт центр регионального взаимодействия, позволяющий минимизировать или, по крайней мере, отчасти смягчить этнополитические и религиозные противоречия в российском социуме;
– упомянутая выше тенденция медленной рационализации массовых представлений о России, образ которой стал (по сравнению с массовыми реминисценциями 2000-х, и тем более 1990-х гг.) более приближенным к существующим территориальным и символическим реалиям Российской Федерации.
Таким образом, можно констатировать, что специфика эволюции национально-государственной идентичности в современной России характеризуется поэтапным и неравномерным движением от фрагментарной модели к консолидационной. Дальнейшая логика ее развития может быть представлена в виде четырех базовых трансформационных сценариев: мобилизационного, умеренно-консервативного (инерционного), деструктивно-конфликтного и модернизационного, связанного с формированием российской гражданской нации.
Список литературы Национально-государственная идентичность в современной России: специфика формирования и сценарии эволюции
- Андреев А.Л. Образ России и образ Запада в сознании россиян (середина 1990-х - 2007 годы) // Историческая психология и социология истории. 2009. № 1. С. 110-138.
- Дробижева Л.М. Российская гражданская идентичность в научно-политических дискуссиях и общественном мнении // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. Т. 8, № 4 (43). С. 324-336.
- Евгеньева Т.В. Историческая память и национально-государственная идентичность в современной России // Ценности и смыслы. 2012. № 5 (21). С. 27-36.
- Комаровский В.С. Формирование национально-государственной идентичности в России: вызовы и риски // Власть. 2015. № 3. С. 20-27.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. С. 5-28.
- Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции. М., 2017. 184 с.