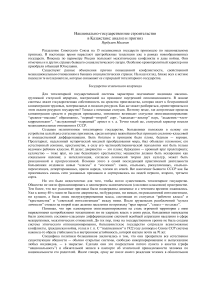Национально-государственное строительство в Казахстане: анализ и прогноз
Автор: Масанов Нурбулат Эдигеевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Безопасность
Статья в выпуске: 1, 1995 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911652
IDR: 14911652
Текст статьи Национально-государственное строительство в Казахстане: анализ и прогноз
Разделение Советского Союза на 15 независимых государств произошло по национальному признаку. В настоящее время нарастают центробежные тенденции уже в рамках новообразованных государств. Повсюду по периметру России полыхают межэтнические конфликты и даже войны. Они отмечены и в других странах бывшего социалистического лагеря. Особенно кровопролитный характер они приобрели в бывшей Югославии.
Существуют разные объяснения причин повышенной конфликтности, свойственной межнациональным отношениям в бывших социалистических странах. На наш взгляд, ближе всех к истине подошли те исследователи, которые связывают ее с природой тоталитарного государства.
Государство этнического апартеида
Для тоталитарной государственной системы характерно подчинение индивида массовогрупповой статусной иерархии, построенной на принципе внутренней оппозиционности. В основе системы лежит государственная собственность на средства производства, которая ведет к безграничной концентрации трудовых, материальных и людских ресурсов. Как же может разбираться, ориентироваться в этом океане ресурсов государство? Только с помощью статусов. Поэтому везде, где допустимые пределы концентрации средств и ресурсов превышены, мгновенно возникает статусное оппозиционирование: “среднее—высшее” образование, “первый—второй” сорт, “кандидат—доктор” наук, “академик—член-корреспондент”, “заслуженный—народный” артист и т. д. Точно такой же, статусный характер носили межнациональные отношения в СССР.
Создавая нелигитимное тоталитарное государство, большевики положили в основу его устройства целый ряд статусных признаков, среди которых важнейшим был принцип сословно-классовой и имущественной дифференциации. Быть богатым в принципе было плохо, бедным — хорошо. Пролетариат, наделенный исторической миссией преобразования мира, был объявлен гегемоном; его естественный союзник, крестьянство, в силу его частнособственнической психологии мог быть только ведомым рабочим классом. И далее: дворянство — это плохо; буржуазия — кровный враг пролетариата; кулачество — тоже враг, но уже беднейшего крестьянства; мещанство должно быть искоренено как социальное явление; а интеллигенция, согласно ленинской теории двух культур, может быть реакционной и прогрессивной. Помимо этого в своей последующей практической деятельности большевики создавали новые “классы” и “сословия”: зэков, ссыльных, раскулаченных, ссыльно-переселенцев, депортированных, врагов народа, членов их семей. Все население бывшего СССР как бы просеивалось сквозь сито указанных признаков и сортировалось на людей первого, второго, третьего сорта.
Но это было недостаточно для того, чтобы могло существовать тоталитарное государство. Общество не могло функционировать в одномерном экономическом (сословно-классовом) пространстве. Тем более, что все указанные признаки были подвержены динамике и с течением времени изживались. Уже к концу 40-х годов не было ни дворянства, ни буржуазии, ни мещан, ни реакционной интеллигенции, ни кулаков, а была лишь неструктурированная масса, состоящая из статусных “рабочего класса” и “крестьянства” и “советской интеллигенции” между ними. После хрущевских разоблачений “культа личности” отошло на второй план деление населения по признаку “враг народа”, “сидел — не сидел”.
Понимая, что при одномерном оппозиционировании на столь огромной территории с явно выраженными центробежными тенденциями им не удержать власть в своих руках, большевики вынуждены были дополнить сословно-классовую дифференциацию системой всеобщей сегрегации населения в сфере межгрупповых, межэтнических отношений. До тех пор, пока на государственном уровне не была создана система этнического оппозиционирования, большевистское государство сотрясали всевозможные конфликты, гражданская война, голод и т. п. С “подписанием” в 1922 году договора о Союзе ССР система наконец-то обрела стабильность и внутреннюю устойчивость, которой хватило почти на 70 лет.
Специфика политики большевиков заключалась в том, что они превратили все естественно существующие общности — обычно открытые системы, свободно инкорпорировавшие и выпускавшие любых индивидов, — в закрытые. Сделали они это посредством пятого пункта в анкетах (графа “национальность”) и обязательной записи в паспорте об этнической принадлежности человека по национальности его родителей. Иначе говоря, сразу же после своего рождения человек в обязательном порядке инвентаризировался и сортировался как член той или иной этнической общности. Личная самоидентификация индивида, как и вообще его личность, ничего не значили в системе тоталитарного государства. По существу, по этническому признаку дискриминировалось все население.
При этом буквально все этнические общности формировались в 20—30-е годы совершенно субъективно и произвольно. И поскольку в этот период вообще господствовал упрощенный подход к анализу общественных явлений, то происходила всеобщая унификация и стандартизация принципов этничности. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить списки народностей, фигурировавших в различных переписях населения. Так, в материалах переписи 1926 года зафиксировано 194 народности. Из них в дальнейшем около 100 были исключены из общего перечня. В материалах переписи 1959 года упоминается только 109 народностей. Причем некоторые группы населения, зачастую совершенно чуждые друг другу, безосновательно объединялись в некие мифические народности, никогда реально не существовавшие, а некоторые близкородственные народы — искусственно расчленялись и квалифицировались как разные.
Например, в материалах переписи 1926 года содержится указание на удивительный по своему цинизму факт государственного регулирования этнической номенклатуры: в одном из примечаний отмечается, что аджарцы, грузины, лазы, мегрелы, сваны, согласно Постановлению ЦИК СССР, объединяются в общую группу под названием “грузины” 1. Не менее характерно и другое пояснение к материалам переписи, в котором отмечается, что “для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народности, где словом “русский” определяют свою народность представители трех этих народностей (курсив мой. — Авт.), необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность “русский”, точно определяли, к какой именно народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской, они себя причисляют...” 2.
Следствием данной, в значительной степени надуманной, этнической номенклатуры и основанной на ней государственно-административной системы являются многие территориальные споры и претензии новоявленных субъектов политики друг к другу.
Сказанное может быть хорошо проиллюстрировано материалами буквально по всем народам бывшего СССР. Ограничимся, однако, лишь Средней Азией и Казахстаном. Так, сильно различающиеся и в языковом, и в конфессиональном, и в хозяйственно-культурном отношении ираноязычные народы Средней Азии — таджики и припамирские народности (язгулемцы, рушанцы, хуфцы, бартангцы, орошорцы, шугнанцы, ишкашимцы, ваханцы, сарыягнобцы) были в приказном порядке объединены в один народ, в таком виде никогда не существовавший 3. Из еще большего числа чуждых друг другу этнических групп был “сконструирован” узбекский народ. В его состав были включены: самая большая хозяйственно-культурная общность региона — сарты (горожане, земледельцы), численностью более 1 млн. человек, населявшие плодородные районы Ферганской долины; ираноязычные жители Самаркандского и Бухарского оазисов; полукочевые узбеки численностью около 1 млн. человек; а также сочетавшие в разной степени скотоводство и земледелие кыпчаки, тюрки, курама, чагатаи, карлуки, каршилик, халачи, моголы, меришкары и многие другие 4. Разнородные в хозяйственно-культурном отношении группы кочевников и жителей оазисов Юго-Восточного Прикаспия были искусственно объединены в туркменский народ 5.
Одновременно государством была создана надуманная иерархическая система этнических статусов: наверху русские как господствующая нация, пониже титульные нации, т. е. получившие республиканскую государственность, еще ниже “младшие братья”, имеющие автономию, а уже затем прочие, нетитульные нации и народности. Все это автоматически вело к возникновению всеобщей системы сегрегации населения.
Партийно-советская номенклатура спускала бесконечные разнарядки о пропорциях и процентном соотношении тех или иных народностей, которые следовало соблюдать при выдвижении на руководящие должности, при приеме на работу, в вузы, в КПСС и другие общественные организации. Жизнь, благосостояние, возможность получения образования, работы, карьера зависели от этнической принадлежности индивида. Особенно строго была расписана по этническому признаку аппаратная номенклатура. Даже направление детей во Всесоюзный пионерский лагерь “Артек” зависело от этнической принадлежности ребенка, каждой национальности выделялась определенная квота. Так было создано государство этнического апартеида. Буквально все сферы общественной жизни были пронизаны принципом этнической сегрегации. Человеческие и профессиональные качества индивида зачастую не играли никакой роли. Человек был вторичен, а групповая, прежде всего этническая принадлежность, — первична. Доминирующее положение группы на иерархической пирамиде государственных статусов было залогом достижения жизненного успеха и материального благополучия. Так, центральный бюрократический аппарат (ЦК КПСС, Верховный Совет, Совет Министров, руководство армии, профсоюзов и т. п.) был русским, республиканская номенклатура была сбалансирована русскими и представителями титульной нации. Остальные практически не имели шансов сделать карьеру, в лучшем случае они могли быть “вторыми” (заместителями).
В конце концов, система этнического апартеида и стала одной из основных причин развала СССР, поскольку любое государство, основанное на приоритете одной группы, конфессии, этноса, класса неизбежно обречено на самоуничтожение. В развитых странах мира права человека определяются только фактом гражданства, а не его религиозной, этнической, расовой или языковой принадлежностью. Иначе говоря, система этнического апартеида — это временный, преходящий феномен. Он возникает при переходе от аграрного к индустриальному и урбанизированному обществу, в странах второго эшелона промышленной модернизации и в том случае, когда власть захватывается коммунистами, создающими основанное на государственной собственности тоталитарное государство.
Казахстан: этнический апартеид и новая государственность
Как и другие государства, вышедшие из СССР, Казахстан унаследовал от “родителя” государственную систему этнического апартеида. Этим обстоятельством во многом определяется сложность межэтнических отношений в Казахстане, противоречия между титульной нацией, казахами, и нетитульными нациями и народностями. На общереспубликанском уровне всего заметней противоречия между казахами и русскими; на региональном — между казахами и русскими в городах на севере и северо-востоке республики, между казахами и немцами в целинных областях, казахами и уйгурами на юго-востоке, казахами и узбеками на юге; на местном уровне бросаются в глаза противоречия между казахами и отдельными мелкими этническими группами, в первую очередь северокавказского происхождения.
При апартеидной системе государство всей своей мощью защищает прежде всего интересы титульной нации. Ее языку и культуре придается приоритетное значение, ее гегемонию обеспечивает кадровая политика. Это вызывает недовольство прочих этнических групп, их отчуждение от политики государства. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать: до тех пор, пока в Казахстане будет сохраняться посткоммунистическая апартеидная система, порождающая взаимную неприязнь народов, центробежные процессы будут усиливаться.
В этой связи необходимо отметить различное отношение разных народов и разных макрогрупп населения в их составе к самой идее государственности и к кадровой проблеме. Потомственное городское население Казахстана, как казахское, так и прочее, довольно индифферентно относится к любой форме государственности. Не менее равнодушно оно и к той смене кадров, что последовала за провозглашением независимости. Большинство горожан понимает, что система осталась, что она перемалывает людей, что для нее важны не талант и знания чиновника, а лишь его готовность беспрекословно выполнять указания вышестоящих органов. Она отторгает интеллектуалов, личность, зато приемлет посредственность.
Совершенно другое отношение к идее государственности и к структуре кадров у сельского населения и городских маргиналов, т. е. сельских жителей, перебравшихся в города. Эти группы населения составляют среди казахов около 95% от их общего числа, среди русских — 60—70% и среди остальных этнических групп — 80—90%. Все они ориентированы на патернализм, сильную власть, но по-разному — в зависимости от национальности — относятся к идее этнического казахского государства. Они очень болезненно воспринимают любые кадровые перестановки в аппарате, поскольку для них в фигуре политического лидера или высшего чиновника персонифицируется право их этнической группы на приоритетное положение. Именно этим был спровоцирован протест маргинальной части алмаатинцев в декабре 1986 года. Хотя, казалось бы, какая разница простому обывателю от того, кто сидит “наверху”: Кунаев или Колбин? Ведь по существу, между ними не было никакой принципиальной разницы. И тот, и другой были представителями номенклатуры, абсолютно чуждой народу.
Кадровые перемены, ведущие к увеличению казахской бюрократии, с удовлетворением воспринимаются сельской и маргинальной городской частью казахского населения и, наоборот, крайне негативно — представителями нетитульных наций. Последние нередко считают, что от неграмотности и коррумпированности казахской бюрократии и проистекают все беды современного Казахстана. Примерно таким же образом различается реакция казахского и неказахского населения на переименования улиц, городов, районов и областей.
Это подтверждает уже высказанную нами мысль, что апартеидное государство, замкнутое на интересы лишь одной группы общества, идет к своему уничтожению. Сейчас в оппозиции к идее этнического казахского государства находится не менее 60% населения Казахстана. Пока такая оппозиция по большей части выражается в миграции русскоязычного населения из республики. На начало 1994 года его чистая миграционная убыль составила около 0,5 млн. человек. Но не следует переоценивать миграционный потенциал нетитульных наций. Уедет наиболее инициативная и высококвалифицированная часть русскоязычного населения — около 1,5 млн. человек. Большинство же русских, украинцев, белорусов и т. д. останется, и тогда начнется куда более жесткое, чем в настоящее время, сопротивление идее этнического казахского государства, что в условиях экономического кризиса может привести к распаду Казахстана.
Необходимо отметить, что апартеидная система создает все новые и новые импульсы к самоуничтожению. Возьмем языковую политику первого парламента Казахстана. Она навязывала большинству язык меньшинства. Тем самым парламент, можно сказать, прокладывал дорогу в пропасть. Действительно, силовыми коммунистическими методами невозможно в кратчайшие сроки обеспечить переход более 60% населения на казахский язык 6. На это должны уйти десятки лет, в течение которых за русским языком должен быть закреплен статус второго официального языка. Далее, 99% достижений науки и мировой культуры может быть воспринято населением Казахстана только на русском языке. Перевод обучения на казахский язык обернется всеобщей “провинциализацией” населения, его отчуждением от достижений мировой цивилизации. Такой “эксперимент” типологически мало чем отличается от культурного геноцида. История воздаст по заслугам апологетам национализма и языкового фетишизма: их затея, скорее всего, провалится и уж точно не принесет долговременных политических дивидендов горе-авторам языковой политики.
Острота межэтнических отношений в Казахстане усугубляется и тем, что коррумпированная номенклатура препятствует проведению рыночных реформ в республике под тем предлогом, что этнодемографическая ситуация (40% казахов и 60% неказахов) в настоящее время складывается не в пользу коренного населения, а значит, в ходе приватизации казахам достанется меньше, чем неказахам. Одновременно утверждается, что казахи не готовы к рынку частной собственности и поэтому надо, мол, подождать с реформами. Реформы тормозятся как бы от лица казахов, во имя казахов. Тут имеет место прямой обман и неказахов и казахов, ибо, откладывая реформы, номенклатура тем временем расхищает народную собственность, не оставляя никаких надежд на превращение в будущем в собственников ни казахам, ни русским, ни другим этническим группам.
Таким образом, политика номенклатуры в области национально-государственного строительства не только не означает принципиального разрыва с системой этнического апартеида, но и ведет к дальнейшему ухудшению межэтнических отношений в Казахстане, ставит общество на грань гражданской войны. К сожалению, эта опасность совершенно не осознается посткоммунистическими правителями, хотя очевидна для аналитиков как за рубежом, так и у нас в республике.
Казахстан: перспектива геополитического разлома
Чтобы ясно представить порочность утвердившегося в Казахстане курса национальногосударственного строительства, необходимо рассмотреть региональную структуру республики с геополитической точки зрения. А для этого надо на каждый регион взглянуть сквозь призму основных показателей социально-экономического развития. По нашему мнению, таких показателей шесть: 1) природные условия; 2) плотность населения, т. е. фактически степень освоенности той или иной территории; 3) этнический состав населения; 4) степень развития городов как центров модернизации общественной жизни; 5) уровень развития промышленности; 6) состояние сельского хозяйства.
Сравнительный анализ регионов, проведенный с помощью перечисленных показателей, позволяет сделать вывод: Казахстан — государство с очень рыхлым “ядровым” (центральным) пространством, в котором развитие промышленности, городов, сельского хозяйства носит не отвечающий геополитической функции ядра окраинный, периферийный характер. При таком ядре системы государства изначально слабы, и Казахстану очень трудно обрести устойчивый геополитичский статус, так как рыхлость ядра благоприятствует расхождению “континентов” — окружающих его регионов.
В самом деле, Центральный Казахстан, приближенно определяемый как территория между Актюбинском, Семипалатинском и Алма-Атой, отличается почти полным отсутствием городов и обрабатывающей промышленности, редким населением и неразвитыми формами сельского хозяйства. При таких его характеристиках он вряд ли может быть подлинным многофункциональным ядром национальной территории. В принципе, для “ядрового” пространства необходимо интенсивное развитие промышленности, сельского хозяйства и городов в Центральном Казахстане, главным образом в Джезказганской области. Из-за сложных экологических условий сейчас это представляется маловероятным. Более реальными способами укрепления “ядрового” пространства следует считать развитие здесь мощной инфраструктуры (железнодорожного транспорта, авиатранспорта, автотранспорта, трубопроводного транспорта, строительство международного аэропорта, нефтеперерабатывающих заводов и т. п.) с тенденцией постепенного превращения региона в сгусток коммуникаций, центр спутниковой телевизионной и радиосвязи, транспортных развязок. Другим перспективным средством “терапии” было бы создание сети небольших городов, привязанных к водным источникам и ориентированных на наукоемкие ресурсосберегающие, экологически чистые технологии.
Сильным средством реабилитации “ядрового” пространства многие специалисты считают перенос столицы из Алма-Аты в Центральный Казахстан. Этот подход верен только лишь для нерыночного государства, когда слабо заселенная территория осваивается с помощью плановых централизованных поставок и государственных приоритетов. Для рыночного же государства вопрос о местоположении столицы не имеет принципиального значения. Вашингтон — столица США, но отнюдь не главный центр экономической, деловой, даже политической жизни страны. Не меньшую, а то и большую роль играют Чикаго, Лос-Анжелес, Хьюстон и другие города. Если Казахстан намеревается быть рыночным государством, то вопрос о столице должен быть снят с повестки дня. Когда же говорят о близости к Алма-Ате Китая, то опять-таки хочется напомнить: хотя войска южных конфедератов стояли у Вашингтона, ни у одного чиновника не возникло мысли поднять вопрос о переносе столицы на север США. А вот если Казахстан по-прежнему останется апартеидным государством, то тогда можно будет бесконечно муссировать вопрос о столице, переносить ее куда угодно, однако это не придаст ему целостности.
Вокруг центрального располагается 5 крупных регионов, которые совершенно не связаны экономическими интересами ни с ядром, ни друг с другом, и движутся в разных направлениях. Прежде всего, следует выделить Западный Казахстан, включающий Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангистаускую и Актюбинскую области. В природно-климатическом отношении Запад характеризуется засушливым климатом, дефицитом воды и преобладанием пустынного ландшафта, в котором жизнь человека сопряжена с преодолением больших трудностей. Поэтому здесь практически нет городов: лишь 3 города (Актюбинск, Уральск, Атырау) имеют численность населения более 100 тыс. человек. Все они расположены в приграничной с Россией полосе. Сельское хозяйство представлено самой отсталой отраслью — отгонно-пастбищным скотоводством; промышленность — только топливно-добывающими предприятиями; плотность населения в 3 раза ниже, чем в среднем по республике. В силу сырьевого характера экономики Западный Казахстан однозначно ориентирован на европейскую часть России, хотя в этническом отношении преобладают казахи. Интересно заметить, что обособленность Запада от остального Казахстана четко прослеживается на протяжении последних трех тысяч лет.
Северный Казахстан — благоприятный в экологическом отношении регион: лесостепь, степь, реки, озера, горы. Здесь расположено наибольшее число городов, в том числе городов-стотысячников. В этническом отношении абсолютно преобладают русские, удельный вес казахов не превышает 20—30%. Это самый освоенный и заселенный регион в Казахстане. Сельское хозяйство представлено развитой его формой — целинным земледелием, что обеспечило этому региону заслуженную славу житницы не только Казахстана, но и всего бывшего СССР. Здесь имеются как гиганты добывающей промышленности, так и широкая сеть перерабатывающих предприятий, а также развитая инфраструктура. И в экономическом и в этническом отношении он больше ориентирован на Россию, чем на остальной Казахстан.
Южный Казахстан (Кзыл-Ординская, Жамбыльская и Южно-Казахстанская области). Это самый неблагоприятный в экологическом смысле регион. Это пустыня, к тому же затронутая последствиями высыхания Аральского моря. Хотя плотность населения здесь выше, чем в центральной части или на западе Казахстана, особенно она возрастает лишь в приграничных с Узбекистаном районах. Большинство местного населения составляют казахи. Крупных городов мало, а по степени загрязненности и концентрации вредных веществ все они находятся в критическом состоянии (особенно Жамбыл и Кзыл-Орда). В сельском хозяйстве преобладают две формы ведения хозяйства: отгонно-пастбищное животноводство и монокультуры хлопка и риса. Промышленность практически только добывающая, вся убыточная, живущая на государственные дотации. Юг — самый трудоизбыточный район Казахстана. Аральская катастрофа, упадок промышленности и аграрное перенаселение вкупе с кризисом городов делают его будущность весьма проблематичной.
Юго-Восточный Казахстан (Алматинская и Талдыкорганская области) — несколько обособленный регион. Жизнь в нем возможна только в предгорьях Джунгарского, Заилийского и Киргизского Алатау. Чем дальше от гор, тем реже и меньше города, слабее промышленность и сельское хозяйство, ниже плотность населения. Своеобразие региона заключается в том, что здесь в городах преобладают русскоязычные, а в сельской местности — казахи. Крупные города — Алма-Ата и Талдыкорган. Уже становится очевидной все большая ориентация Юго-Восточного Казахстана на Китай. Так, удельный вес китайского ширпотреба в настоящее время приближается здесь к 45—50% от всего товарооборота, и можно смело прогнозировать дальнейшее усиление китайской экономической экспансии в регионе.
Восточный Казахстан (Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области). В его пределах наиболее развитыми и заселенными являются районы правобережья Иртыша и так же, как и в ЮгоВосточном Казахстане, предгорная часть. Чем дальше от гор, тем меньше заселенность, ниже уровень экономического развития. Экологическая обстановка резко осложнена наличием Семипалатинского ядерного полигона. В городах преобладают русские, в сельской местности — казахи. Геополитическая ориентация региона недостаточно выявилась; несомненно, однако, что правобережье Иртыша во многом тяготеет к России.
Как видим, территория Казахстана крайне неоднородна в геополитическом плане. В случае межэтнического конфликта, который вполне может стать реальностью на стадии стагфляции, т. е. сочетания спада производства (уже имеет место), гиперинфляции и безработицы, может произойти геополитический разлом Казахстана на 5 анклавов со срединным “пустым” пространством между ними. Поэтому этнический конфликт противопоказан Казахстану, и надо снизить уже существующую напряженность в межэтнических отношениях. Решение национального вопроса достижимо только на пути отказа от политики сегрегации и этнического апартеида. Это единственная гарантия сохранения целостности Казахстана в его нынешних границах.
Список литературы Национально-государственное строительство в Казахстане: анализ и прогноз
- Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1928. Т. VIII. С. 249.
- Моногарова Л. Ф. Эволюция национального самосознания припамирских народностей//Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 125-135.
- Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана: по этнографическим данным. М., 1976
- Винников В. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине//Среднеазиатский этнографический сборник. М., 1959. Вып. II.
- Крюков М. В. Этнос и субэтнос//Расы и народы. М., 1988. Вып. 18. С. 18-19.
- Аренов М., Калмыков С. Социологические заметки о языковой ситуации в республике//Мысль, 1995. № 3. С. 49-53.