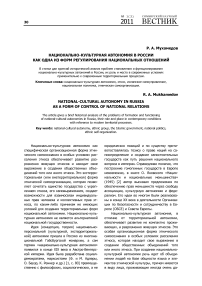Национально-культурная автономия в России как одна из форм регулирования национальных отношений
Автор: Мухамедов Рашит Алимович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье дан краткий исторический анализ проблем становления и функционирования национально-культурных автономий в России, их роль и место в современных условиях применительно к современным территориальным процессам.
Национально-культурная автономия, этнос, исламское самоуправление, национальная политика, этническая самоорганизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14113580
IDR: 14113580
Текст научной статьи Национально-культурная автономия в России как одна из форм регулирования национальных отношений
Национально-культурная автономия как специфическая организационная форма этнического самосознания в особых условиях расселения этноса обеспечивает развитие разрозненно живущих этносов и находит свое выражение в создании общественных объединений того или иного этноса. Это экстерриториальная (или внетерриториальная) форма этнической самоорганизации, которая позволяет сочетать единство государства с укреплением этноса, его самовыражением, создает возможности для взаимосвязи индивидуальных прав человека и коллективных прав этноса, по каким-либо причинам не имеющих условий для создания территориальных форм национальной автономии. Национально-культурная автономия не является альтернативой национальной государственности.
Идея (концепция, теория) национальноперсональной (культурной, экстерриториальной) автономии пришла в Россию из многонациональной Габсбургской монархии, а сам термин «национально-культурная автономия» появился в конце XIX века в Австро-Венгерской империи. Идея была разработана социал-демократами, марксистами (Ф. и М. Адлеры, О. Бауэр, К. Реннер и др.) [1, с. 80] преимущественно с философских, социологических, а не юридических позиций и по существу противопоставлялась тезису о праве наций на самоопределение и создание самостоятельных государств как путь решения национального вопроса в империи. Справедливо полагая, что построение гомогенных государств в Европе невозможно, в книге О. Яновского «Национальности и национальные меньшинства» (1945) [2] автор высказал предложения по обеспечению прав меньшинств через свободу ассоциации, культурную автономию и федерализм. Его идеи во многом были реализованы в конце XX века в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы.
Национально-культурная автономия, в отличие от территориальной автономии, обеспечивает развитие не компактно проживающих, а разрозненно живущих этносов. Это особая организационная форма этнического самосознания в особых условиях расселения этноса, которая находит свое выражение в создании общественных объединений того или иного этноса. При создании национальнокультурной автономии речь идет об объединении людей на базе общности языка и элементов этнической культуры, причем имеются в виду лица, проживающие иногда очень да- леко друг от друга, в этой связи национальнокультурная автономия не является и не может быть правом на самоопределение политического характера. Это экстерриториальная (или внетерриториальная) форма этнической самоорганизации, которая позволяет сочетать единство государства с укреплением этноса, его самовыражением, создает возможности для взаимосвязи индивидуальных прав человека и коллективных прав этноса, по каким-либо причинам не имеющих условий для создания территориальных форм национальной автономии. Национально-культурная автономия не является альтернативой национальной государственности.
Сущность концепции ее авторов, К. Реннера (Р. Шпрингера) и О. Бауэра [1, с. 80], заключалась в том, что источником и носителем национальных прав должны служить не территории, борьба за которые лежит в основе большинства межнациональных конфликтов, а сами нации, точнее, национальные союзы, конструируемые на основе добровольного личного волеизъявления. Персональную принадлежность граждан к тому или иному союзу должен был представлять институт так называемого кадастра (переписи), составленного на основе личных заявлений совершеннолетних граждан. В системе национально-персональной автономии кадастр получал не меньшее публично-правовое значение, чем территория для национально-отграниченной области.
В России австромарксистская идея нашла горячих сторонников, претерпев определенную трансформацию. Одни, в частности кадеты, увидели в ней универсальный способ решения национального вопроса в полиэтнической России, реальную альтернативу его территориальному решению, будь то федерация или территориальная автономия, альтернативу, способную, с их точки зрения, предотвратить распад страны. Причем до 1917 года в программе кадетов говорилось лишь о праве на культурное самоопределение. IX съезд партии в июле 1917 года внес в нее дополнения, основанные уже на классической модели национально-персональной автономии. Другие, и таких было большинство (эсеры, трудовики, меньшевики, многие национальные партии), рассматривали эту модель прежде всего как оптимальный способ решения проблемы дисперсных этносов и меньшинств.
Однако Программа «Национально-культурное самоопределение» подверглась критике со стороны большевиков и в особенности В. И. Ленина, считавших, что при таком решении национальной проблемы игнорируется фактическое территориальное расселение народов и этнических групп, а сама идея национально-культурной автономии основана на неправильном понимании нации как союза одинаково мыслящих людей, сложившегося на почве общности судьбы [2].
Одним из первых к практической реализации национально-культурной автономии приступили адепты национально-религиозного единства мусульман России. Уже в июле 1917 года на совместном заседании трех всероссийских съездов (общемусульманского, военного и духовного) они провозгласили культурно-национальную автономию мусульман Внутренней России и Сибири. День провозглашения автономии, 22 июля, был объявлен национальным праздником мусульман [3]. 31 июля II Всероссийский мусульманский съезд принял документ под названием «Основы национально-культурной автономии мусульман Внутренней России и Сибири», который предусматривал предоставление «му-сульманам-тюрко-татарам» статуса юридического лица. Высшим законодательным органом автономии, представлявшим нацию вовне, объявлялось выборное Национальное собрание (миллят-меджлиси). В качестве исполнительного органа для управления культурными, религиозными и финансовыми делами образовывалось Национальное управление (правительство), состоящее из трех ведомств (назаратов): по делам религии, просвещения и финансов [4, с. 179—181].
Территория «внутренней России» со значительным мусульманским населением делилась на национальные губернии во главе с губернскими национальными собраниями, формируемыми на выборной основе. Губернское собрание для ведения религиозных дел избирало мухтасиба, для управления вопросами просвещения — инспектора по просвещению, финансовыми делами — управляющего финансами. Национальная губерния делилась на национальные округа во главе с помощниками мухтасиба, губернского инспектора по просвещению и управляющего финансами. В каждом городе и деревне для ведения культурно-национальных дел избиралась ко- миссия в составе учителя, имама и представителя населения из мусульман.
Для защиты прав и интересов мусульман в кабинете министров в Петрограде учреждался пост статс-секретаря в ранге министра с правом решающего голоса, который должен был замещаться мусульманином. Правительство не должно было вмешиваться в культурно-религиозные дела мусульман, предоставляя вместе с тем ежегодно средства для покрытия расходов по культуре, просвещению и религии пропорционально численности мусульманского населения. Практическое осуществление культурно-национальной автономии и подготовка созыва Национального собрания возлагались на Комиссию мухтариата с местонахождением в Уфе.
Уже в программных установках партии «Иттифак» заключались идеи достижения широкого самоуправления мусульман в вопросах вероисповедания и просвещения, а также независимой юрисдикции в области брачного, семейного и наследственного права [5, с. 177—181]. Во главе исламского самоуправления должен был стоять избираемый всеми мусульманами России раис-уль-улама, которому подчинялись пять шайх-уль-исламов. Далее шли губернские и уездные меджлисы. Шайх-уль-исламы в своих округах обязаны были созывать советы из избранных народом духовных и светских лиц, знакомых с нуждами населения. Местные мусульманские учреждения должны были быть независимы от губернских и иных административных учреждений, а в отношении общего надзора подведомственны Сенату или министру внутренних дел. Это был религиозно-национальный вариант экстерриториальной (культурной, персональной) национальной автономии, основывающийся на представлении о единстве всех мусульманских народов России как особой национально-социальной общности.
Провозглашенная мусульманскими съездами в Казани культурно-национальная автономия представляла собой адаптированный к условиям дисперсного расселения мусульман в России вариант национально-персональной автономии с присущими ей основными чертами: экстерриториализмом и признанием союза мусульман субъектом права. Третий элемент — персонализм, т. е. добровольное вхождение индивида в то или иное национальное сообщество, заменялся конфессиональ- ным признаком — принадлежностью тюрко-татар к исламу [4, с. 207].
Разрабатываемая областниками модель основывалась на принципах экстерриториа-лизма, персонализма и признания национально-персональных союзов юридическими лицами, субъектами права, т. е. на принципах, отличавших этот вид национальной автономии от других. Предлагалась следующая структура ее органов: высший представительный орган — Национальный совет, низшие автономные единицы — сельские, волостные, городские советы, общины, рады, гмины, рады и т. п. (у каждой национальности свои). К автономным функциям были отнесены культурно-просветительная деятельность, религия, экономика, т. е. компетенция органов национально-персональной автономии была достаточно широкой. Содержание национальных союзов возлагалось на общегосударственные, городские, волостные, земские органы. Национальным союзам предоставлялось также право налогового обложения своих членов, заключения займов и иных финансовых мер. Эта программа была сформулирована в решениях сибирской конференции общественных организаций в августе 1917 года и принята I съездом областников, который проходил в октябре 1917 года в Томске [6, с. 122—126].
Одновременно Национальное собрание выработало Конституцию — Основные положения о культурно-национальной автономии мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири, а также ряд других документов об управлении духовно-религиозными и культурно-национальными делами. В той же сессии Национального собрания было избрано постоянное Центральное Национальное управление (ЦНУ) в составе трех ведомств — просвещения, духовного и финансов [4, с. 211—212]. Как известно, Урало-Волжская республика была ликвидирована советской властью в марте-апреле 1918 года [5, с. 177—181]. А культурно-национальная автономия мусульман, руководящие органы которой были также распущены, после ее временного падения на востоке России возродилась и просуществовала до конца Гражданской войны.
При коммунистическом режиме в Советском Союзе опыт решения проблемы национальных меньшинств был принципиально иным. Национальная политика советской вла- сти носила патерналистский, максимально огосударствленный характер. На практике это означало право на образование национальных административно-территориальных единиц, создание национальных школ и т. п. Но уже в середине 30-х годов национальные советы и районы были ликвидированы, началось постепенное свертывание национальной системы образования [7, с. 231—236]. Конституция СССР 1936 года вообще не содержала упоминания о национальных меньшинствах. С этого времени они утратили всякий юридически закрепленный статус, оказавшись обреченными на полную ассимиляцию, утерю культурной самобытности, национальное бесправие [8, с. 273—275].
Своей реабилитацией идея национальнокультурных автономий обязана эпохе «перестройки». Обращение к идее национальнокультурных автономий в современных условиях было обусловлено тем, что для многих политиков и ученых все более очевидной становилась необходимость реформирования существующей в СССР системы национальногосударственного устройства, таящей в себе деструктивный и конфликтогенный заряд огромной силы. И чем яснее обнажалась иллюзорность и утопичность национально-территориального принципа государственного устройства, тем все более настойчивым становилось обращение к забытой идее. С распадом СССР и возникновением новых государств, обернувшихся для национальных меньшинств правовой дискриминацией, вынужденной миграцией, а местами и принудительной депортацией, интерес к национально-культурной автономии еще более возрос. К заложенному в ней позитивному потенциалу стали обращаться политики, ученые и публицисты самой разнообразной политической окраски. После долгих лет забвения национально-культурная автономия объявляется эффективной мерой регулирования межэтнических отношений, наиболее глубокой и действенной формой реализации прав и интересов национальностей, способной обеспечить поступательное развитие и совершенствование многонационального общества и т. п.
В современных условиях многие исходят из узкого понимания национально-культурных автономий, определяя ее как «систему национального самоуправления в форме различных национально-культурных центров, обществ, союзов, объединений, способствующих свободному развитию национальной культуры, языка, школы и других общественных институтов, дисперсно проживающих в инонациональной среде» [9, с. 193]. Именно по этому пути пошла законодательная практика 90-х годов. Закон СССР от 26 апреля 1990 года [10, с. 72—74] и «Основы законодательства о культуре» от 9 октября 1991 года были первыми правовыми актами, которые «гарантировали» всем этническим общностям, компактно проживающим вне своих национально-государственных образований или не имеющим своей государственности, право на культурно-национальную автономию [11, с. 27—29], которое, однако, сводилось лишь к возможности создания национальных организаций, преследующих сугубо культурно-просветительные цели.
В полиэтничном обществе разные языки имеют разный объем социальных функций, следовательно, представляют разную ценность как социальный ресурс. Спрос на относительно «слабые» языки и на услуги культурных и образовательных институтов, использующих эти языки, оказывается потенциально нестабильным и плохо предсказуемым, поскольку попадает в зависимость от множества переменных и не всегда «рыночных» факторов: числа носителей языка, характера расселения, их идеологической мотивации. Необходима гибкая система реагирования на этот спрос. Для этой цели лучше подходят самоуправляемые структуры неправительственного сектора. Вместе с тем, по крайней мере в бывших социалистических странах, гражданское общество не располагает ресурсами, достаточными для поддержания культурных и образовательных институтов меньшинств [12, с. 231]. Важнее даже другое — ставка в поддержании культуры и образования меньшинств исключительно на частные школы и прочие учреждения означала нарушение принципа социальной справедливости. Все платят в одинаковом размере налоги, а выбор языка общения, творчества и образования является (во всяком случае, в России) конституционным правом. Действительно, оптимальным представляется соединение общественной инициативы с публичной поддержкой. На границе публичного и неправительственного некоммерческого сектора можно найти разные формы этого взаимодействия.
Итак, национально-государственные образования и национально-культурные автономии являются важнейшей формой самоопределения народов Российской Федерации и условием осуществления основного принципа плюралистического общества — «единство в многообразии». Возможно, в дальнейшем произойдет постепенная замена национально-территориального принципа государственного устройства сугубо территориальным и переход от национально-территориального к культурно-национальному принципу организации автономии. Поэтому в современных условиях существенно умаляются возможности национально-культурных автономий как механизма, призванного удовлетворить национальные запросы и снизить межэтническую напряженность в России, сохранение жесткого контроля и опеки государства над национально-культурными автономиями. Сегодня национально-культурная автономия выглядит практически единственным способом решения тяжелых межнациональных противоречий, накопившихся в российском обществе. Однако нередко термин «национальнокультурная автономия» употребляется власть имущими голословно, намекая на его манипу-лятивность.
-
1. Чуркина И. В. Программы культурно-национальной автономии: создание и варианты // Вопросы истории. 1999. № 4—5.
-
2. Иванец Г. И., Калинский И. В., Червонюк В. И. Конституционное право России. Энциклопедический словарь. М.: Юридическая лит., 2002. 432 с.
-
3. См.: Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп, 1909; Шпрингер Р. [Реннер К.] Национальная проблема (Борьба национальностей в Австрии). СПб.: Изд-во «Общественная польза», 1909.
-
4. См.: Зубов А. Б., Салмин А. М . Оптимизация национально-государственных отношений в условиях «национального возрождения» в СССР // Рабочий класс и современный мир. 1989. № 3.
-
5. См.: Лазерсон М. Я. Национальность и государственный строй. Пг., 1918.
-
6. См.: Давлетшин Т . Советский Татарстан. Лондон, 1974.
-
7. См.: Попов Г. Х., Аджубей Н. Память и «Память». О проблемах исторической памяти и современных национальных отношений беседуют доктор экономических наук Г. Х. Попов и Никита Аджубей // Знамя. 1988. № 1.
-
8. См.: Ленин В. И. Из тезисов по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т. 23.
-
9. Из выступления А. М. Салмина на конференции Института по изучению межнациональных отношений при журнале «Дружба народов» // Дружба народов. 1992. № 3.
-
10. Саликов М. С . Национально-территориальные и культурно-национальные формы автономии: проблемы становления и реализации // Вестник МГУ. 1993. № 4. Сер. 11. Право.
-
11. Статус малочисленных народов России: правовые акты и документы. М., 1994.
-
12. Осипов А. Г . Национально-культурная автономия в России: идея и реализация // Этнокультурное многообразие — потенциал развития общества в странах Центральной Азии (практика, концепции, модели, перспективы). Материалы международного семинара / под ред. Н. Багдасаровой, М. Глушковой, Н. Асыл-бековой. Бишкек, 2004.
Список литературы Национально-культурная автономия в России как одна из форм регулирования национальных отношений
- Чуркина И. В. Программы культурно-национальной автономии: создание и варианты//Вопросы истории. 1999. № 4-5.
- Иванец Г. И., Калинский И. В., Червонюк В. И. Конституционное право России. Энциклопедический словарь. М.: Юридическая лит., 2002. 432 с.
- Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп, 1909;
- Шпрингер Р. [Реннер К.] Национальная проблема (Борьба национальностей в Австрии). СПб.: Изд-во «Общественная польза», 1909.
- Зубов А. Б., Салмин А. М. Оптимизация национально-государственных отношений в условиях «национального возрождения» в СССР//Рабочий класс и современный мир. 1989. № 3.
- Лазерсон М. Я. Национальность и государственный строй. Пг., 1918.
- Давлетшин Т. Советский Татарстан. Лондон, 1974.
- Попов Г. Х., Аджубей Н. Память и «Память». О проблемах исторической памяти и современных национальных отношений беседуют доктор экономических наук Г. Х. Попов и Никита Аджубей//Знамя. 1988. № 1.
- Ленин В. И. Из тезисов по национальному вопросу//Полн. собр. соч. Т. 23.
- Из выступления А. М. Салмина на конференции Института по изучению межнациональных отношений при журнале «Дружба народов»//Дружба народов. 1992. № 3.
- Саликов М. С. Национально-территориальные и культурно-национальные формы автономии: проблемы становления и реализации//Вестник МГУ. 1993. № 4. Сер. 11. Право.
- Статус малочисленных народов России: правовые акты и документы. М., 1994.
- Осипов А. Г. Национально-культурная автономия в России: идея и реализация//Этнокультурное многообразие -потенциал развития общества в странах Центральной Азии (практика, концепции, модели, перспективы). Материалы международного семинара/под ред. Н. Багдасаровой, М. Глушковой, Н. Асылбековой. Бишкек, 2004.