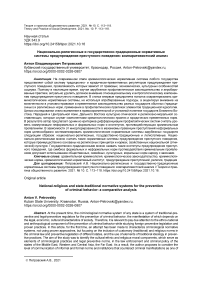Национально-религиозные и государственно-традиционные нормативные системы предупреждения преступного поведения: компаративистский анализ
Автор: Петровский Антон Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
На современном этапе криминологическая нормативная система любого государства представляет собой систему традиционно- и юридически-превентивных регуляторов предупреждения преступного поведения, проявляемость которых зависит от правовых, экономических, культурных особенностей социума. Поэтому в настоящее время, изучая зарубежное профилактическое законодательство и апробированные практики, актуально уделить должное внимание этнонациональному и антропологическому компонентам предупреждения преступного поведения. В статье впервые предпринята попытка охарактеризовать криминологические нормативные системы, не используя апробированные подходы, а акцентируя внимание на включенности в уголовно-правовое и превентивное законодательство разных государств обычных (традиционных) и религиозных норм, применении в профилактических практиках элементов традиционной идеологии. Целью исследовании стало выявление в правоохранительной и уголовной политике государств Ближнего Востока, Передней и Центральной Азии, Дальнего Востока культурно-этнической и религиозно-моральной составляющих, которые служат компонентами криминологических практик и юридических превентивных норм. В результате автор предлагает одним из критериев дифференциации профилактических систем считать уровень коммуникации неформальных и формальных норм и институтов, противодействующих криминальным проявлениям. В зависимости от инкорпорированности в механизмы превенции преступлений неформальных норм целесообразно систематизировать криминологические нормативные системы зарубежных государств следующим образом: национально-религиозные, государственно-традиционные и легислативные. Национально-религиозными можно считать такие нормативные системы предупреждения преступного поведения, которые преимущественно основаны на религиозных принципах и нормах, свойственных национальной (этнической) культуре. Государственно-традиционными можно назвать такие институты предупреждения преступного поведения, где симбиоз формальных и неформальных норм противодействия криминальным проявлениям допускает использование общественных, семейных, культурных, моральных норм наряду с законами.
Сравнительная криминология, криминологическое законодательство, криминологическая норма, криминологический нормативный институт, предупреждение преступлений, религия, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149138646
IDR: 149138646 | УДК: 343.9 | DOI: 10.24158/tipor.2021.10.16
Текст научной статьи Национально-религиозные и государственно-традиционные нормативные системы предупреждения преступного поведения: компаративистский анализ
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
Kuban State University, Krasnodar, Russia, ,
Учеными предложено множество способов систематизации правовых и уголовно-правовых систем [1, c. 37–48; 2, c. 28–29; 3, c. 9–11; 4, c. 10–20]. Воспользоваться данными вариантами для анализа нормативно-правовой архитектоники затруднительно, потому что не так важна юридическая система, как правовая идеология и отраженная в законодательстве совокупность духовнотрадиционных ценностей. Тем не менее один из подходов к классификации правовых систем учитывает приоритетность источников при конструировании юридических норм в государстве для дальнейшей систематизации [5, p. 12–17]. Применяя указанный способ по аналогии, криминологические формальные и неформальные нормативные институты можно разделять в зависимости от объема использования в юридической системе традиционных, религиозных, этнических норм. Именно степень включенность в соционормативное регулирование традиционных (обычных) и религиозных норм будет являться критерием отбора соответствующих криминологических систем зарубежных стран.
В основу разграничения могут укладываться такие компоненты системы уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности, как меры противодействия преступности, способы системного восприятия преступности, функционирование институтов региональной (национальной) превенции, реализация научных концепций противодействия преступности на практике [6, c. 25–26; 7; 8, p. 7]. К перечисленным критериям необходимо добавить инкорпориро-ванность в механизмы социального контроля традиционных или религиозных способов противодействия отдельным преступным посягательства. Используемый подход позволит расширить криминологические теории, выведя их за пределы национальных или культурных границ, оценить эффективность национальных систем предупреждения преступного поведения [9].
Человеческая цивилизация в процессе развития накопила обширный опыт противодействия преступным проявлениям, который трансформировался в систему научных знаний, нашел отражение в международном и государственном законодательстве. Тем не менее, изучая древние законы, рассматривая теории, апробируя практики, криминологи оставляют без должного внимания этно-национальный опыт. Ученые не могут продуктивно охватить сугубо сравнительными приемами взаимодействие полиции, судов с различными гражданскими институтами общества, оценить по достоинству опыт нейтрализации и устранения криминогенных детерминантов общественными и религиозными организациями. Ученые игнорируют критерий антикриминальной этнокультурности при систематизации существующих систем противодействия преступности, считая его элементом социума, который не играет большой роли в предупреждении преступлений.
Поэтому в настоящей статье впервые предпринята попытка характеризовать криминологические нормативные системы, не привлекая апробированные подходы, а акцентируя внимание на включенности в уголовно-правовое и превентивное законодательство разных государств обычных (традиционных) и религиозных норм, использовании в профилактических практиках компонентов традиционной идеологии и права. В исследовании приоритет отдается воплощению в правоохранительной и уголовной политике культурно-этнической и религиозно-моральной составляющих, которые выступают элементами криминологических практик и юридических норм. Можно выдвинуть гипотезу о том, что криминологическая нормативная система любого государства представляет собой сосуществование как традиционно-, так и юридически-превентивных регуляторов предупреждения преступного поведения, чья проявляемость зависит от правовых, экономических, культурных особенностей.
Изучение зарубежных нормативных установок традиционного и религиозного характера, регулирующих комплекс ограничительных либо сдерживающих мер воздействия на криминогенные факторы, возможно на основе исследования взаимодействия административных органов и общественных институтов. Этот метод ориентирован на обнаружение криминорезистентных социальных практик, источниками которых являются нормы обычного права, этнические или религиозные правила поведения, культурные установки и ценности.
Учитывая изложенную позицию, предлагаем дифференцировать нормативные системы предупреждения преступного поведения в зависимости от взаимодействия неформальных норм противодействия криминальным проявлениям с законодательством о противодействии преступности на следующие: 1) национально-религиозные; 2) государственно-традиционные; 3) легислативные.
Национально-религиозными можно считать такие нормативные системы предупреждения преступного поведения, которые преимущественно базируются на религиозных принципах и нормах национальной (этнической) культуры. Главным образом это мусульманские государства, т. е. такие страны, у которых в Основном законе указано, что источником права является Коран и Сунна, все правовые акты должны соответствовать религиозным нормам – шариату. Исламу не присуще разграничение социальных норм на правовые и иные, поэтому деяние, носящее антисоциальный характер и запрещенное шариатом, одновременно выступает антиобщественным и противоправным [10, c. 61]. Рассуждая о духовно-нравственных ценностях, определяющих содержание уголовно-правовых и криминологических практик, формирующих социальный контроль, необходимо отметить, что в современном постмодернистском обществе только мусульманская правовая культура сохранила онтологические фундаментальные позиции, где формальное право не главенствует в общественной, религиозной и культурной жизни.
Шариат как закон жизни для каждого, кто исповедует ислам, является уникальным социальным институтом, хотя существует похожая социальная конструкция – иудейский свод правил поведения – галаха. Израиль официально провозглашает, что жизнедеятельность общества регулируется иудаистскими предписаниями, содержащимися в Торе (Пятикнижии Моисея) и Талмуде, также декларируя, что законодательные предписания должны соответствовать религиозным нормам. Иудейское право есть основа правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности государственных органов Израиля. Иудейские религиозные традиции и догматы оказывают влияние на законотворческую деятельность кнессета Израиля (парламента), судебную систему [11]. Иудейские религиозные нормы используются для обоснования справедливости приговоров по уголовным делам в деятельности раввинатских судов, выступающих одним из институтов предупреждения семейного насилия [12].
Однако основным отличием шариата (галахи) от других религиозных традиций является упор на прямой и универсальный долг человека перед Богом. Создатели шариата развили, иногда до крайности, этнокультурные и моральные тенденции, которые присутствовали у населения, подведя их под Божественные предписания. Нормы шариата не признают деление на классы, этническую принадлежность и сословность, единственное правомерное различие – это степень добродетели и набожности. Ни один человек, организация или учреждение не имеют полномочий, которые позволили бы отдельному мусульманину облегчить бремя исполнения обязанностей перед Богом. Долг мусульманина перед Богом – это быть Его наместником на земле и устраивать божественный порядок. Поэтому одна из главных обязанностей любого мусульманина, признанная еще со времен приверженцев благочестия, – «сеять добро и запрещать зло», что не только означает наставлять правоверных на истинный путь, но и удерживать их от совершения греха, но и предусматривает всеобщую ответственность за соблюдение надлежащего общественного порядка [13, c. 229].
Государственно-традиционными можно назвать такие нормативные институты предупреждения преступного поведения, присущие отдельным государствам, в которых симбиоз формальных и неформальных норм противодействия криминальным проявлениям легитимирован. Это страны, допускающие использование общественных, семейных, культурных норм наряду с законами для предупреждения преступного поведения. В подобных государствах традиционалистские институты функционируют веками, служат незыблемой основой правоохранительной культуры. Наиболее явственно государственно-традиционные институты противодействия преступному поведению представлены в Китае и Японии.
В Конституции Китайской Народной Республики закреплено, что государство находится на начальной стадии социализма и на основе теории социализма, китайской специфики будет модернизировано общество [14]. Внимательно ознакомившись указанным положением, можно сделать вывод, что Коммунистическая партия Китая не отказалась от традиционной системы ценностей, составляющей фундамент культурно-социальной жизни. Акцент на китайскую специфику предполагает, что все изменения, новшества, улучшения должны преломляться через китайскую социальную философию, этнокультурный миропорядок, тысячелетние традиции управления. Созданная легистами, измененная и реализованная конфуцианством система ответственности за нарушение нормативных предписаний формирует основу китайской национальной психологии о полезности суровых законов и важности карательной составляющей права. Социалистическая мораль адаптировала к современным китайским реалиям традиционные социальные нормы, такие как подчинение власти, уважение старших, воспитание аскетизма, скромность, правовая покорность [15].
Конституция КНР в ст. 53 определяет: «Граждане Китайской Народной Республики обязаны соблюдать Конституцию и закон, хранить государственную тайну, защищать государственную собственность, соблюдать рабочую дисциплину и общественный порядок, уважать общественную мораль» [16]. Право и мораль рассматриваются как борьба темного начала (инь – право) и светлого (ян – мораль), где мораль выше и главнее при урегулировании общественных отношений [17]. В китайской социальной культуре естественное право есть конфуцианская мораль, выполняющая оценочные функции обоснованности государственных мер принуждения, общественной полезности и опасности (неопасности) поведения индивида.
Правовая система Китая складывается из небольшого количества законов и административных актов при широкой развитости местного нормотворчества, которое состоит из тысяч нормативных правовых документов, устраняющих пробелы и толкующих процедурные вопросы законодательства. Такая ситуация отражает систему, сохраняющую традиционный компонент управления, когда большая часть законотворчества и администрирования перекладывается на местные власти по причине того, что они лучше знают и понимают, как нужно управлять и какие меры применять. Данный подход предопределил следующие способы воздействия на преступное поведение в КНР: 1) смешение конфуцианской и коммунистической воспитательной доктрины, формирующее у индивида с детства безграничную веру в руководителей государства, их мудрость, правильность принимаемых решений, проводимой политики, справедливость установленного порядка в стране; 2) сочетание двух подходов противодействия преступности – «борьбы на основе закона» и «борьбы при помощи морали».
Интересен японский опыт использования традиционных норм для предупреждения криминальных проявлений, который широко освящен в работе Н.А. Морозова. Жизнь японского общества базируется на разумном симбиозе законодательства и неформальных культурно-этнических норм, где человеческие отношения строятся на основе обычного права и половозрастной иерархии [18, c. 97–98]. Обязательными поведенческими атрибутами являются чувства стыда, чести, гармонии, достоинство, самовоспитание, сочувствие, групповая солидарность, трудолюбие. Главная цель японской нормативной криминологической системы состоит в предупреждении преступлений на начальных стадиях – на этапе возникновения криминальных потребностей и мотивации, понуждающем индивида отказаться от задуманного и осмысленно вернуться к правопослушному поведению [19, c. 53]. Правоохранительная система Японии представляет собой не репрессивный механизм, а семейную модель уголовной юстиции, где преступления небольшой тяжести могут выводиться из подсудности уголовной юстиции при наличии оснований исправления виновного с последующим назначением штрафов [20].
Такой подход позволяет поддерживать тесные контакты между полицией и населением, генерировать высокий уровень доверия либо желание у граждан помогать обеспечивать порядок, лично пресекать противоправные действия деликвентов. В Японии 96 % опрошенных готовы не только сделать замечания человеку, распивающему алкоголь в общественном месте либо ломающему общественную собственность, но и лично принять все меры для пресечения подобного противоправного поведения. Для несовершеннолетних действует система семейных судов, преобладающей целью которых является не привлечение к ответственности и назначение принудительных мер, а исследование причин и условий преступного поведения с рассмотрением возможностей использования примирительных процедур [21]. Семейный суд представляет собой коллегиальный орган, где наряду со специалистами – педагогом, психологом, юристом – присутствуют известные спортсмены или артисты, чей авторитет может оказывать влияние на сознание несовершеннолетнего деликвента. Одним из основных направлений в предупреждении преступного поведения является реагирование посредством неформальной системы превенции. Общество обладает правом применять в отношении лиц с отклоняющимся или антиобщественным поведением высмеивание, что может трактоваться как издевательства; игнорирование, исключение из коллектива (общины); бойкот; общественный контроль, предусматривающий надзор со стороны соседей или трудового коллектива.
Для ряда стран Латинской Америки в целом характерна слабость отдельных институтов государственной власти. На некоторых территориях правоохранительные органы не функционируют, население лишено доступа к правосудию. Подобная ситуация складывается в государствах, где существуют длительные социальные и гражданские конфликты, явные экономические и криминальные проблемы. Поэтому в таких странах, как Колумбия, Гватемала, Сальвадор, Бразилия, Венесуэла, Перу, также присутствуют государственно-традиционные механизмы предупреждения преступного поведения.
Они проявляются в системе сельских патрулей (исп. – Rondas campesinas), объединяющей жителей по территориальному принципу в целях противодействия преступникам на территории проживания. Дополнительно такие общественные формирования разбирают семейные конфликты, ссоры между соседями, нарушения пользования земельными участками. В Конституции Перу указано, что органы власти сельских коренных общин при поддержке сельских патрулей могут осуществлять судебные функции в пределах своей территории в соответствии с обычным правом, при этом они не должны нарушать основных прав человека [22, c. 313–320]. В Колумбии сотрудничество общества и государства определяется Декретом № 356 от 11 февраля 1994 г., в котором к настоящему времени содержательная сторона претерпела изменения, однако осталась возможность создавать негосударственные службы безопасности в виде предприятий и отделов частной охраны и безопасности (юридических лиц, осуществляющих охрану), кооперативов охраны, состоящих из представителей этнической группы или населения муниципалитета.
В некоторых странах Африки для предупреждения преступлений и обеспечения общественного порядка используется модель кооперации между полицейскими структурами, подчиняющимися центральной власти, и местными сообществами [23]. Правительство разрабатывает методики, формы, порядок взаимодействия, а полицейские подразделения в зависимости от местных этнокультурных особенностей их реализуют. В африканских государствах активно применяется институт традиционных лидеров. Эта превентивная конструкция предполагает контролируемую со стороны полиции деятельность вождей, местных авторитетных мужчин и женщин по воздействию на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Таким структурам предоставляются разные возможности и допустимые пределы влияния. При невозможности или неудаче патерналистского воздействия полиция имеет право задействовать более строгие меры по отношению к нарушителям.
В заключение следует отметить, что определить коммуникацию неформальных и формальных норм и институтов, противодействующих криминальным проявлениям в современном мире, можно новым методом: при анализе различных криминологических систем отталкиваться от объема использования в законодательстве традиционных, религиозных, этнических норм, т. е. степень инкорпорированности в механизмы социального контроля традиционных или религиозных институтов противодействия преступным посягательствам будет являться критерием дифференциации профилактических систем.
В зависимости от инкорпорированности в механизмы превенции преступлений неформальных норм систематизировать криминологические нормативные системы зарубежных государств можно следующим образом. 1. Национально-религиозные – это государства, национальной (этнической) культуре которых свойственно преобладание религиозных доктрин и норм в качестве источников криминологического законодательства, институтов принуждения, понуждения и социализации лиц, отличающихся высокой вероятностью совершения преступлений. Здесь юридические нормы не обладают признаком исключительности в общественной, религиозной и культурной жизни, а основа законотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности государственных органов может регулироваться религиозными предписаниями. 2. Государственно-традиционные государства, допускающие использование общественных, семейных, культурных норм наряду с законами для предупреждения преступного поведения, когда изменения, новшества, улучшения системы уголовного судопроизводства преломляются через социальную философию, этнокультурный миропорядок, тысячелетние традиции управления, где существует симбиоз традиционных и законодательных нормативных предписаний, поддерживаемый правовой политикой страны. При этом соблюдение обычаев и традиций предков выступает неотъемлемой частью юридической культуры либо предусмотрена модель кооперации между полицейскими структурами, подчиняющимися центральной власти и местными сообществами при слабости отдельных институтов государственной власти.
Список литературы Национально-религиозные и государственно-традиционные нормативные системы предупреждения преступного поведения: компаративистский анализ
- Давид Р., Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. М., 1988. 496 с.
- Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. М., 2007. 152 с.
- Кругликов Л.Л. Сравнительное уголовное право : учебное пособие. Ярославль, 2013. 100 с.
- Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. 370 с.
- Mattei U. Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World s Legal Systems // The American Journal of Comparative Law. 1997. Vol. 45, no. 1. P. 5-44. https://doi.org/10.2307/840958.
- Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика : дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2015. 486 с.
- Howard G.J., Newman G., Pridemore W.A. Theory, Method, and Data in Comparative Criminology // Criminal Justice. 2000. Vol. 4. P. 139-211.
- Barak-Glantz I.L., Johnson E.H. Comparative criminology. Thousand Oaks, CA, 1983. 153 р.
- Ведерникова О.Н. Основные криминологические системы современности (сравнительный анализ) // Государство и право. 2002. № 10. С. 32-40 ; Мешко Г., Воронин В.Н. Теоретические основы сравнительной криминологии в мировом измерении // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 5. С. 695-706. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(5).695-706.
- Боронбеков С. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с экстремизмом в российском обществе : монография. Рязань, 2004. 279 с.
- Шестакова С.В., Чихладзе Л.Т. Нормы, основанные на религиозных догматах, как источники конституционного права зарубежных стран // Успехи в химии и химической технологии. 2014. Т. 28, № 7 (156). С. 29-31.
- Давидов Д.С. Роль религии в формировании политико-правовой мысли Израиля // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 (14). С. 340-344.
- Ходжсон М.Дж.С. История ислама: исламская цивилизация от рождения до наших дней / пер с англ. А.Н. Гордиенко, И.В. Матвеева, Н.В. Шевченко. М., 2013. 1080 с.
- Трощинский П.В. Право, политика и идеология современного Китая // Труды Института государства и права РАН. 2016. № 4. С. 187-204.
- Сонин В.В. Правление государством на основе закона: истоки, содержание и перспективы китайского варианта правового государства // Lex Russia. 2016. № 9 (118). С. 99-113. https://doi.Org/10.17803/1729-5920.2016.118.9.099-113.
- Сун Л. Теоретические вопросы управления государством на правовой основе и на основе нравственных норм: китайский опыт // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2018. Т. 9, вып. 1. С. 102-111. https://doi.org/10.21638/11701/spbu14.2018.108.
- Трощинский П.В. Влияние традиции на право современного Китая // Журнал российского права. 2014. № 8 (212). С. 94-106. https://doi.org/10.12737/5281.
- Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в Японии. СПб., 2003. 213 с.
- Осмоналиев К.М. Сравнительно-правовые подходы к реализации криминологических концепций предупреждения преступности в зарубежных странах // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2019. № 2. С. 44-57.
- Миязава С. Загадочная Япония - испытательный полигон для сравнительных криминологических исследований // Криминологические исследования в мире : сб. статей. М., 1995. С. 180-187.
- Иншаков С.М. Особенности уголовной политики Японии в ХХ в. // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 6. С. 130-133.
- Костогрызов П.И. Общество и государство в борьбе с преступностью: латиноамериканский опыт // Право и политика. 2016. № 3. С. 313-320. https://doi.org/10.7256/1811 -9018.2016.3.14890.
- Diphoorn T.G. Twilight Policing: Private Security Practices in South Africa // British Journal off Criminology. 2015. Vol. 56, no. 2. P. 313-331. https://doi.org/10.1093/bjc/azv057 ; Zikhali W. Community Policing and Crime Prevention: Evaluating the Role of Traditional Leaders under Chief Madliwa in Nkayi District, Zimbabwe // International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. 2019. Vol. 8, no. 4. P. 109-122. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i4.1179.