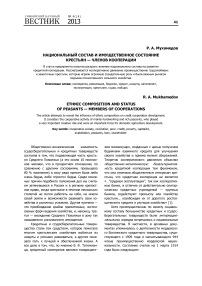Национальный состав и имущественное состояние крестьян - членов кооперации
Автор: Мухамедов Р.А.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка раскрыть влияние национального состава на развитие кредитной кооперации. Рассматривается кооперативное движение преимущественно трудолюбивых и зажиточных крестьян, которые играли огромную созидательную роль и были важным рычагом подъема отечественного сельского хозяйства.
Кооператив, революция, бедняки, кредит, нищета, капиталист, эксплуатация, крестьяне, ссуда, пайщик
Короткий адрес: https://sciup.org/14113852
IDR: 14113852
Текст научной статьи Национальный состав и имущественное состояние крестьян - членов кооперации
Общественно-экономическая значимость ссудосберегательных и кредитных товариществ состояла в том, что подавляющая часть крестьян Среднего Поволжья (а это около 10 миллионов человек, что в процентном отношении, по сравнению с другими сословиями, превышало 80 % населения) в силу ряда причин была либо очень бедна, либо «просто» бедна. Среди основных причин подобного положения дел мы считаем затянувшееся в России и в регионе крепостное право, когда крестьяне в течение нескольких столетий не могли работать на себя, не имели своей земли и возможности развивать свои хозяйства в рыночных условиях. Другая причина — это преобладание крайне примитивных, экстенсивных форм ведения хозяйства, и, наконец, третья — вхождение Среднего Поволжья в зону так называемого рискованного земледелия .
Кредитные и ссудосберегательные товарищества стали тем средством, которое помогало многим крестьянским хозяйствам выбиться из нищеты и успешно развиваться, а другим показало путь к лучшей и обеспеченной жизни. А все дело в том, что, по мнению В. Ф. Тотомиан-ца, кредитный кооператив являлся товарищест- вом малоимущих, созданным с целью получения бедняками взаимного кредита для улучшения своего хозяйства и приема мелких сбережений. Теоретик кооперативного движения объяснял общественно-экономическую безальтернативность кредитной кооперации тем феноменом, что она отвечала общественным интересам крестьян, что кредитная кооперация не является «…”орудием эксплуатации”, так как кооперативные банки, в отличие от действительно олигархических кредитных учреждений — крупных банков, содействуют промыслу или хозяйству крестьян... освобождая их от дорогого ростовщического кредита и улучшая хозяйство» [1].
Хотя преимущественно по своему социальному составу большинство кредитных и ссудосберегательных товариществ были интернациональными , изредка встречались и национальные товарищества. В частности, в архивных документах упоминалось о деятельности мордовского Боклинского кредитного товарищества, существующего с 1909 года и насчитывающего 944 члена преимущественно мордовской национальности. Состояние счетов на 1 марта 1914 года было следующим:
Пассив
Актив
|
Капиталы основ. |
4632 руб. 28 коп. |
Суммы кред. учр. |
500 руб. 00 коп. |
|
Капитал запасный |
681 руб. 89 коп. |
Ссуды |
37 076 руб. 62 коп. |
|
Капиталы ос. назнач. |
655 руб. 09 коп. |
Товары |
1395 руб. 21 коп. |
|
Вклады |
13 328 руб. 75 коп. |
Имущество |
1354 руб. 58 коп. |
|
Займы |
17 877 руб. 19 коп. |
Расходы |
330 руб. 70 коп. |
|
Переходящие суммы |
570 руб. 59 коп. |
Наличность кассы |
413 руб. 49 коп. |
Прибыли 3314 руб. 81 коп.
Баланс 41 070 руб. 60 коп.
Представленные данные свидетельствовали о том, что Боклинское кредитное товарищество работало весьма успешно, поэтому когда в 1914 году в этом же районе русские крестьяне захотели создать свое товарищество, инспекция мелкого кредита эту заявку отклонила [2].
В многонациональных товариществах русские крестьяне успешно сотрудничали с представителями мордвы, татар, чувашей и т. д. Возьмем одно из двунациональных кредитных товариществ — Сайгушинское кредитное общество Симбирской губернии. Состав членов названного товарищества на 1 января 1915 года включал всего 839 человек, из которых — 396 русских и 443 мордвы. На общем собрании, созванном для рассмотрения отчета за прошлый год, были поставлены вопросы о хлебо-залоговых операциях и о прокатной станции, которые были встречены собранием с одобрением. Собранием был принят и утвержден отчет следующего содержания. Прибыли за прошлый год получено 926 руб. 67 коп., которая распределена следующим образом: 400 руб. отчислено в основной капитал, 200 — в запасной капитал, 200 руб. — на приобретение имущества, 76 руб. 67 коп. — на открытие при товариществе прокатной станции и 50 руб. — на оборудование коек имени кооперативов Симбирской губернии. Так что можно сделать вывод о дружной и успешной работе товарищества [3].
Дискриминации по национальному признаку в кооперативной среде практически не было, если не считать нежелания членов некоторых кооперативных товариществ принимать на работу евреев. Так, на общем чрезвычайном собрании членов Сызранского ремесленно-промышленного кредитного товарищества, состоявшемся 18 сентября 1910 года, было принято решение о недопущении приема в состав членов кредитного товарищества лиц еврейского происхождения как фактически имеющих в наличности в г. Сызрани свой национально-еврейский комитет, обслуживающий материальные нужды еврейского населения данной местности, не исключая и перешедшего в православие. Принятых ранее евреев было решено исключить из товарищества и ходатайствовать перед Симбирским губернским комитетом о частичном изменении в этом направлении ст. 2 п. 3 Образцового устава [4].
Утверждения М. Красильникова о преобладании в кредитной и ссудосберегательной кооперации зажиточных крестьян подтверждаются данными по губерниям региона.
Очень любопытно к исследованию хозяйственного положения членов ссудосберегательных и кредитных товариществ на примере Пензенской губернии подходил Н. Никитин. Он изучал имущественное положение крестьян Никольской волости Городищенского уезда Пензенской губернии, входивших в Никольское товарищество. В данной волости было 799 домохозяев, из них в район кредитного товарищества входило 693, из которых членов ссудосберегательных и кредитных кооперативов было 509 хозяйств, то есть более 70 %. Из 509 членов кредитных обществ было 487 общинников, 14 хуторян и 48 незем-ледельцев [5]. Положение хуторян было гораздо лучшим, чем положение общинников, так как на одного хуторянина открытый кредит в среднем был равен 80 руб. 71 коп., а на одного общинника — 57 руб. 35 коп. Большой размер открытого кредита указывает на хозяйственную зажиточность хуторян, принимавших участие в товариществах. Сравним хозяйственное положение хуторян и общинников (членов товарищества) (табл. 1). Из приведенных данных видно, что хуторяне — члены кредитных товариществ были значительно более зажиточными и входили в более зажиточные товарищества. Общинники же являлись в основном середняками.
Кроме того, Н. Никитиным было установлено, что в товарищества входят довольно много безлошадных и однолошадных крестьян. Однако уже в самих товариществах вызрела тенденция постепенно освободиться от них как от «ненужного балласта», препятствующего развитию. Так, уже в правлении возник вопрос о значительном сокращении им кредита. Автор статьи констатирует, что группам по хозяйственному положению ниже среднего кредит помочь не может.
Таблица 1
Имущественное положение хуторян и общинников — членов ссудосберегательных и кредитных товариществ Никольской волости Городищенского уезда Пензенской губернии в 1915 году*
|
Наименование собственности |
Члены кредитной кооперации, хуторяне |
Члены кредитной кооперации, общинники |
Сравнительные данные в целом по волости |
|
Средняя семья |
9,5 |
6,9 |
6,7 |
|
Рабочих рук на семью |
5,2 |
3,8 |
Нет данных |
|
Средняя посевная площадь |
22,4 десятины |
5,4 десятины |
Нет данных |
|
Лошадей, в перерасчете на двор |
4 |
1,3 |
1,4 |
|
Коров, на двор |
2,3 |
1,1 |
1,3 |
|
Среднее количество овец на одно хозяйство |
15 |
5,3 |
5,4 |
|
Стоимость построек (в руб.) |
356 руб. |
262 руб. |
Нет данных |
* Вести Пензенского губернского земства. 1915. № 1. С. 45.
Аналогичные данные выявлены и в Саратовской губернии. В таблице 2 представлены четыре товарищества, расположенные в разных концах губернии (Курдюмское в Саратовском, Вольско-Баклушинское в Вольском, Елано-Рус-ское и Больше-Екатериновское в Аткарском уездах) и действующие в границах одного села. В общей сложности в районах кредитных товариществ находилось 3345 дворов.
Хозяйства зажиточных крестьян, к которым относились дворы с пятью и более головами рабочего скота, представлены в двух товариществах. В одном из них — Елано-Русском — эта цифра невысока (2,7 %), в другом — Баклушин-ском — в десять раз больше (21,8 %). Во многом такая ситуация объяснялась переходом зажиточных крестьян Баклушинской волости на укрепленные в собственность земли и на отрубные хозяйства, для «ведения в которых улучшенного землепользования требовались дополнительные кредиты» [6].
Особую группу составляли малоимущие хозяйства в Баклушинском (18,9 %) и Елано-Русском (59,3 %) товариществах, которые не имели рабочего скота или имели только одну лошадь на двор. Последняя цифра превышала губернский уровень, что свидетельствовало о наличии в товариществах противоположных групп с высоким и низким уровнем дохода. Из списочного состава Елано-Русского товарищества выявляется, что у крестьян из зажиточной группы (2,7 %) на двор приходилось до 10 лошадей, более 20 голов крупного рогатого скота и 15 мелкого рогатого скота. В то же время у группы малоимущих, превосходивших губернскую норму, не было рабочего скота совсем или имелась только одна лошадь и по одной голове крупного рогатого и мелкого рогатого скота [7]. По сравнению с уфимскими кооперативами размежевание внутри саратовских товариществ на зажиточных и малоимущих было более резким и заметным.
Таблица 2
Обеспеченность кооперированных крестьянских хозяйств рабочим скотом по уездам Саратовской губернии в 1913 году* (%)
|
Название кредитных товариществ |
Без рабочего скота |
1 лошадь |
2 лошади |
3—4 лошади |
5 лошадей и более |
Всего |
|
Курдюмское |
4,2 |
12,5 |
20,8 |
62,5 |
- |
100 |
|
Вольско-Баклушинское |
3,1 |
15,8 |
18,7 |
40,6 |
21,8 |
100 |
|
Елано-Русское |
26,5 |
32,8 |
22,3 |
15,7 |
2,7 |
100 |
|
Больше-Екатериновское |
- |
23,0 |
46,3 |
30,7 |
- |
100 |
|
Всего по губернии |
24,7 |
33,7 |
22,0 |
12,5 |
7,1 |
100 |
*Составлено по: ГАСО. Ф. 403. Оп. 1. Д. 158. Л. 4 об., 5 об.; Д. 151. Л. 5, 5 об., 6; Д. 153. Л. 3, 4, 7, 7 об., 8;
Д. 154. Л. 5 об.
Несмотря на это, ядро саратовских кредитных учреждений составляла самая большая в абсолютном и процентном выражении группа, относившаяся, как и в уфимских кооперативах, к середнякам с двумя и тремя-четырьмя лошадьми на двор. В Курдюмском товариществе их было 83,3 %, Больше-Екатериновском — 77 %, Баклушинском — 59,3 % и лишь в Елано-Рус-ском — 38 %. В целом по губернии этот показатель был значительно ниже — 34,5 %.
Для полного выяснения имущественного положения кооперированных хозяйств Саратовской губернии в тех же кредитных товариществах (Курдюмском Саратовского, Вольско-Баклушинском Вольского, Елано-Русском и Больше-Екатериновском Аткарского уездов) необходимо рассмотреть еще один важный пока- затель — обеспеченность членов товариществ землей. К сожалению, полученные результаты из-за отсутствия материалов невозможно сопоставить с данными обо всех крестьянских хозяйствах губернии, но сведения об обеспеченности землей различных социальных групп в товариществах получить все-таки можно (табл. 3).
Данные, изложенные в таблице 3, подтверждают предварительные выводы о том, что беднейшие слои деревни слабо участвовали в кооперации, в то время как зажиточные, особенно в Курдюмском и Баклушинском товариществах, составляли примерно одну треть членов кооперативных учреждений. Вместе с тем довольно весомую группу представляли середняки с наделами от 6—10, 11—15 и 16—20 десятин. Удельный вес этой группы в целом составлял от 27 до 60,6 %.
Таблица 3
Обеспеченность кооперированных крестьянских хозяйств землей по уездам Саратовской губернии в 1913 году* (%)
|
Название кредитных товариществ |
Без земли |
С землей до 5 дес. |
6—10 дес. |
11—15 дес. |
16—20 дес. |
21—40 дес. |
Свыше 40 дес. |
Всего |
|
Курдюмское |
4,2 |
4,3 |
20,8 |
8,3 |
20,8 |
33,3 |
8,3 |
100 |
|
Вольско-Баклушинское |
12,6 |
12,5 |
21,8 |
25 |
- |
12,5 |
15,6 |
100 |
|
Елано-Русское |
12,9 |
26,2 |
30,6 |
19,2 |
10,8 |
0,3 |
- |
100 |
|
Больше-Екатериновское |
3,8 |
50 |
3,9 |
3,8 |
19,3 |
19,2 |
- |
100 |
*Составлено по: ГАСО. Ф. 403. Оп. 1. Д. 158. Л. 4 об., 5 об.; Д. 151. Л. 5, 5 об., 6; Д. 153. Л. 3, 4, 7, 7 об., 8;
Д. 154. Л. 5 об.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная кооперация в регионе была на 90 % исключительно крестьянской. По численности семейного состава, средней посевной площади, обеспеченности рабочим скотом и другим показателям главный контингент кредитных кооперативов представлял средний слой крестьянства с «уклоном в сторону зажиточных». Низший экономический слой представлен в товариществах незначительно, более того, отмечались случаи вытеснения его из кооперации. За все годы «кооперация подбирала — по существу своему только и могла подбирать — лишь способные к самодеятельности элементы, которым было за что хозяйственно прицепиться. Элементам обездоленным, неимущим кооперация помочь бессильна» [8]. Однако Л. Е. Файн замечает, что «при всей дифференциации в степени участия в кооперативном движении различных социальноимущественных групп и пользовании ими кооперативными услугами и благами все участвующие в той или иной мере в кооперации получали определенную материальную выгоду, в це- лом соответствовавшую реальному вкладу в создание распределявшихся благ, что способствовало развитию и укреплению хозяйства практически каждого члена» [9]. Другими словами, кооперация не была благотворительной организацией, и неимущим слоям деревни она могла помочь только в соответствии с их вкладами.
В кредитной кооперации большинство составляли мелкие вкладчики, однако наряду с ними имелись и очень крупные, со вкладами 500 и более рублей. По данным М. Л. Хейсина, взятым из отчетов Управления мелкого кредита, в 822 товариществах мелкие вклады составляли 55 %, но их общая сумма равнялась 9 % всей вкладной суммы. Крупные вклады составляли 12 %, и их доля равнялась 60,7 % всей вкладной суммы. О том, что стояло за этими цифрами, говорят данные о вкладах кредитных товариществ Хвалынского уезда Саратовской губернии: Сухо-Терешанского, Адоевщинско-Терешан-ского, Акатно-Мазинского, Сосново-Мазинского. В 1906 году 17 % их клиентов, располагавших в среднем вкладами свыше 500 руб., внесли 53 % всей суммы вкладов. На остальные 83 % со средним размером вклада 52 руб. приходилось 47 % общей их суммы.
В средневолжских губерниях, особенно в Самарской и Казанской, практиковалось внесение вкладов хлебом. Такие примеры описаны В. Ф. Тотомианцем, А. П. Корелиным [10]. Обычно зажиточный крестьянин, имеющий большие запасы хлеба, передавал этот хлеб в распоряжение товарищества по определенной цене с уплатой ему денег в назначенный срок. Сумма, причитающаяся крестьянину за хлеб, зачислялась срочным вкладом, а товарищество выдавало своим членам ссуды этим хлебом, идущим главным образом на потребление, а иногда и на посев. Хлеб, переданный в распоряжение товарищества, оставался в амбаре вкладчика, а заемщики получали его из этого же амбара по ордерам правления. Операция была выгодной как для вкладчика, так и для товарищества. Вкладной хлеб принимался по рыночной цене или по цене с надбавкой, но, во всяком случае, по ценам, меньшим, чем те, по которым покупали бы хлеб заемщики товарищества из денежных ссуд весной. Часто заимода-вец-«вкладчик», получив деньги за хлеб, оставлял их как вклад в товариществе. Развитие этой операции создавало так называемые хлебозапасные магазины для членов товариществ.
Однако вклады хлебом имели и свои отрицательные стороны. Часто эта операция давала простор злоупотреблениям членов правления, принимающих плохой хлеб по высоким ценам и навязывающих его в ссуды рядовым членам (например, подобные злоупотребления были обнаружены ревизией в Ходяшевском кредитном товариществе Казанской губернии). Кроме того, при проведении таких операций возникала опасность распространения в товариществах потребительского кредита, так как ссуды хлебом шли главным образом на потребление и лишь часть — на производственные нужды.
Отсрочка ссуд имела место практически во всех учреждениях, в то же время жизненность отсрочки в большинстве случаев объяснялась тем, что ссуды, по неопытности членов правлений товариществ, были выданы несоразмерно с кредитоспособностью заемщиков , в некоторых случаях причиной отсрочки был недород хлеба и ослабление хозяйств после ухода работников на войну. В последних случаях даже инспекция мелкого кредита не выступала категорично против [11].
Средний кредит на одного человека к концу 1914 года составлял в ссудосберегательных то- вариществах 179,2 руб., в кредитных — 110 руб. Средний размер ссуды на это же время был 57,7 руб. [12]. Согласно «образцовым уставам», члены товарищества несли взаимную ответственность за убытки кооператива, причем ответственность эта могла быть неограниченной (каждый отвечал всем своим имуществом) или ограниченной (только определенной суммой). Вклады принимались от всех частных лиц, ссудами же могли пользоваться только члены товарищества.
В средневолжских губерниях до 1908 года преимущество в выдаче ссуд было на стороне ссудосберегательных товариществ. Затем абсолютные величины ссудной операции стали больше в кредитных товариществах. В большинстве кредитных кооперативов максимальный размер ссуд был невысоким. Например, в Пензенской губернии средняя ссуда на одного члена равнялась 32 руб. [13]. По уставу же максимальный размер кредита по личному доверию и поручительству равнялся 300 руб. и до 1 тыс. руб. при обеспечении ссуды залогом. На какие цели расходовалась выданная ссуда? Здесь ответ дают сведения по 19 ссудосберегательным товариществам за 1908 год, почерпнутые из саратовских источников. Всего из имеющегося капитала 819,5 тыс. руб. в ссудах находилось 700 тыс. В свою очередь, выделенная сумма тратилась на аренду земли, закупку семян и приобретение сельскохозяйственного инвентаря (57,5 %), на строительство и ремонт помещений (21,8 %), на личные расходы (11,8 %), на торговую деятельность (6 %) и на покупку корма для скота (2,9 %). Как правило, в соответствии со спецификой аграрного производства ссуды брались крестьянами весной и осенью. Последние выдавались на год под 8—12 % годовых, что намного ниже, чем у деревенских ростовщиков. Ссудами крестьяне наделялись по личному доверию, под поручительство и под залог (и в качестве такового выступал хлеб). В то время не всегда полученный залог удавалось сохранить, ибо кооперативы располагали слабой базой хранилищ [14].
Таким образом, ссудосберегательная и кредитная кооперация в дореволюционной деревне представляла преимущественно зажиточных и трудолюбивых крестьян. Она играла огромную созидательную роль и была важным рычагом подъема отечественного сельского хозяйства. Национальный и интернациональный состав кредитных товариществ существенного влияния на их развитие не оказывал. Также можно констатировать тот факт, что в начале ХХ века в
Среднем Поволжье существовала система негосударственных кредитно-финансовых организаций, которая наряду с государственными кредитными органами внесла существенный вклад в развитие экономики страны.
-
1. Тотомианц В. Ф. Кооперация: история, принципы, формы, значение. Frankfurt am Main, 1961. С. 70—71.
-
2. ГАСО. Ф. 400. Оп. 1. Д. 436. Л. 11—12.
-
3. Симбирский хозяин. 1914. № 6. С. 44—45.
-
4. ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 60. Л. 11.
-
5. Вести Пензенского губернского земства. 1915. № 1. С. 45.
-
6. ГАСО. Ф. 403. Оп. 1. Д. 151. Л. 5, 5 об.
-
7. ГАСО. Ф. 440. Оп. 1. Д. 154. Л. 5 об.
-
8. Прокопович С. Праздник русской общественности: к 50-летию кооперативного движения в России // Русские вед. 1915. 22 окт.
-
9. Файн Л. Е. Отечественная кооперация. Исторический опыт. Иваново, 1994.
-
10. Тотомианц В. Ф. Кооперация в русской деревне. М., 1912. С. 291—292.
-
11. ГАУО. Ф. 194. Оп. 1. Д. 116. Л. 16—17.
-
12. Троян В. В. Кредитная кооперация и власть в Российской империи во второй половине XIX — начале ХХ вв. : дис. … канд. экон. наук. М., 2010.
-
13. РГИА. Ф. 23. Оп. 9. Д. 331. Л. 132 об.; Ф. 1291. Оп. 54. Д. 176. Л. 46; Ф. 395. Оп. 1. Д. 1152 (а). Ч. I. Л. 373 об., 374.
-
14. ГАСО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 3—5.
Список литературы Национальный состав и имущественное состояние крестьян - членов кооперации
- Тотомианц В. Ф. Кооперация: история, принципы, формы, значение. Frankfurt am Main, 1961. С. 70-71.
- ГАСО. Ф. 400. Оп. 1. Д. 436. Л. 11-12.
- Симбирский хозяин. 1914. № 6. С. 44-45.
- ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 60. Л. 11.
- Вести Пензенского губернского земства. 1915. № 1. С. 45.
- ГАСО. Ф. 403. Оп. 1. Д. 151. Л. 5, 5 об.
- ГАСО. Ф. 440. Оп. 1. Д. 154. Л. 5 об.
- Прокопович С. Праздник русской общественности: к 50-летию кооперативного движения в России//Русские вед. 1915. 22 окт.
- Файн Л. Е. Отечественная кооперация. Исторический опыт. Иваново, 1994.
- Тотомианц В. Ф. Кооперация в русской деревне. М., 1912. С. 291-292.
- ГАУО. Ф. 194. Оп. 1. Д. 116. Л. 16-17.
- Троян В. В. Кредитная кооперация и власть в Российской империи во второй половине XIX -начале ХХ вв.: дис.. канд. экон. наук. М., 2010.
- РГИА. Ф. 23. Оп. 9. Д. 331. Л. 132 об.; Ф. 1291. Оп. 54. Д. 176. Л. 46; Ф. 395. Оп. 1. Д. 1152 (а). Ч. I. Л. 373 об., 374.
- ГАСО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 3-5.