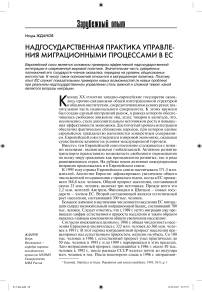Надгосударственная практика управления миграционными процессами в Европейском союзе
Бесплатный доступ
Европейский союз является основным примером эффективной надгосударственной интеграции в современной мировой политике. Значительная часть суверенных полномочий его государств-членов оказалась передана на уровень общесоюзных институтов. К числу таких полномочий относится и миграционная политика. Поэтому опыт ЕС служит показательным примером новых возможностей (и новых проблем) при реальном надгосударственном управлении столь важной и сложной темой, какой являются вопросы миграции.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169153
IDR: 170169153
Текст научной статьи Надгосударственная практика управления миграционными процессами в Европейском союзе
НАДГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЕС
Европейский союз является основным примером эффективной надгосударственной интеграции в современной мировой политике. Значительная часть суверенных полномочий его государств-членов оказалась передана на уровень общесоюзных институтов. К числу таких полномочий относится и миграционная политика. Поэтому опыт ЕС служит показательным примером новых возможностей (и новых проблем) при реальном надгосударственном управлении столь важной и сложной темой, какой являются вопросы миграции.
К концу ХХ столетия западно-европейские государства оказались прочно связанными общей интеграционной структурой и общими институтами, сосредоточившими в своих руках значительную часть национального суверенитета. К этому времени был создан единый внутренний рынок, в рамках которого обеспечивалось свободное движение лиц, услуг, товаров и капитала, что, несомненно, стало дополнительным источником роста и повышения эффективности экономики. Достигнутый уровень интеграции обеспечил фактическое сближение народов, при котором единое европейское гражданство наполняется конкретным содержанием. Европейский союз утвердился в мировой экономике, оказывая существенное влияние на условия международной торговли.
Вместе с тем Европейский союз постоянно сталкивается с новыми вызовами, выдвигаемыми глобализацией. Активное развитие транспорта предоставило возможность свободного перемещения по всему миру гражданам как промышленно развитых, так и ряда развивающихся стран. На рубеже веков активная международная миграция продолжалась и в Европейском союзе.
К 1995 году страны Европейского союза насчитывали 371,5 млн. жителей. Агентство Евростат зафиксировало увеличение общего числа жителей по сравнению с прошлым годом, когда в ЕС проживали 368,6 млн. человек. Общий прирост населения, составивший около 23 млн. человек, включал три источника. Прежде всего это 2,2 млн. жителей Австрии, Финляндии и Швеции – новых государств – членов ЕС. Второй составляющей являлся естественный рост населения, составивший 300 тыс. человек.
Большое значение в увеличении численности населения ЕС пятнадцати сыграл положительный миграционный баланс, составивший 700 тыс. человек. Следует отметить, что с 1989 г. нетто миграции уже превышало цифры естественного прироста населения и таким образом являлось главным компонентом общего увеличения населения1.
ЖДАНОВ
Игорь
Викторович – кафедра мировых политических процессов МГИМО Университета МИД России
Согласно имеющимся данным с 1986 г. общая численность населения Евросоюза увеличилась с 322 млн. человек до 366 млн. человек в 1991 г. В этот период миграционный прирост населения превалировал над естественным приростом, идущим на убыль. Со 100 тыс. человек в 1986 г. естественный прирост упал практически до 50 тыс. человек в 1995 г. и до 1999 г. варьировался в этих пределах. Зато миграционный прирост, находящийся в 1986 г. около 50 тыс. человек к 1992 г., после распада СССР взлетел почти до полутора млн. человек в год. После некоторого спада в 1996 г. миграцион- ный прирост удерживался западно-европейскими странами на уровне1.
Иностранцы, проживающие в Европейском союзе, распределились неравномерно по государствам-членам. Люксембург, самое маленькое по площади и проценту населения из государств – членов ЕС, испытывал огромный наплыв иммигрантов. От общего числа населения в 1997 г. 35% составили иммигранты. Из государств с большей территорией наибольший процент иммигрантов (11%) наблюдался в Швеции, являющейся страной с наиболее высоким уровнем благосостояния. Несколько меньший процент иммигрантов наблюдался в Австрии и Нидерландах (по 9%), за которыми следуют Бельгия и Германия (по 8%), Франция (7%). Остальные страны ЕС принимали иммигрантов в меньшем количестве, процент которых в данных государствах не превышал 4%2.
В миграционном потоке превалировали граждане третьих стран. Около 80% временных трудовых мигрантов, работающих в Германии, прибыли из стран Центральной и Восточной Европы. А в целом в 1997 г. в Германии были 7,7 млн. иностранцев, законно въехавших в страну, то есть примерно 9% населения, где граждане третьих стран занимали лидирующее место. В общем миграционном потоке граждане ЕС составили всего 25% иностранного населения. Подобное состояние дел обнаружилось в Люксембурге, где иностранное население являлось существенным компонентом люксембургского населения. Основной миграционный поток шел из бывшей Югославии3.
В то же время государства-члены продолжали проведение ограничительной иммиграционной политики. Введенная с 1997 г. норма отказа иммигрантам, составляющая около 5%, постепенно повышается в период с 1995 по 1998 год от 4,2 до 6,8%. Для иммигрантов третьих стран, например из Турции, норма отказа по различным причинам в Германии составляла упомянутые 5% с последующим повышением – 6,7% в 1995-м, 9,2% в 1996-м и 11% в 1998-м). В частности, в Люксембурге основной причиной уве- личения отказов иммигрантам с 8,71% в 1996 г. до 9,8% в 1998 г. являлось незаконное проживание или работа4.
В структуре иммиграционного потока 1990-х годов можно выделить несколько отчасти связанных тенденций. Во-первых, в большинстве стран ЕС, достигнув своего пика в 1992–1993 гг., в течение последующих лет сравнительно уменьшилась законная иммиграция вследствие проводимой государствами-членами ограничительной политики. Но даже несмотря на это, иммиграция уверенно лидирует при формировании общей численности населения ЕС, являясь основной ее составляющей.
Вторая тенденция – разнообразие стран происхождения иммигрантов. С одной стороны – оставалась существенной иммиграция из традиционных стран происхождения. Это относится, например, к иммиграции из Индии в Великобританию и иммиграции из северной Африки во Францию. С другой стороны – произошло значительное увеличение новых иммиграционных движений. Лучшим примером является иммиграционный поток из стран Центральной и Восточной Европы в Германию, Австрию и Швецию.
Третьей тенденцией является тот факт, что почти во всех государствах ЕС ищущие убежище и семейная иммиграция составляли наиболее существенную категорию иммиграционного потока.
Как мы видим, к началу 90-х годов ХХ в. иммигранты стали значительной составляющей европейского общества. Таким образом, широкие общественные дебаты вокруг миграции из третьих стран и возможностей национальных государств по регулированию миграционных процессов, проходившие на правительственном и общественном уровне в государствах ЕС, имели под собой основание. Это, безусловно, свидетельствует о низкой результативности политики, проводимой государствами ЕС на межправительственном основании.
Практика постмаастрихтского сотрудничества в области миграционной политики выдвинула на первый план недостатки межправительственного метода, а именно: неэффективность выработки тактики из-за тяжелой процедуры принятия решений, отсутствие ясно определен- ных целей, закрытые переговоры, отсутствие парламентского контроля, судебного наблюдения. Все это, а также недостатки механизмов реализации вызвали необходимость принятия специальных мер на уровне Союза. Следовало пересмотреть политику и формы сотрудничества, реализуемые на основе Маастрихсткого договора с целью воздействия на механизмы и органы Сообщества. В связи с этим главы государств и правительств договорились о созыве в 1996 г. преемственной конференции, главной задачей которой стала ревизия Маастрихтского договора.
В результате работы межправительственной конференции в июне 1997 г. был принят Амстердамский договор. Его цель состояла в том, чтобы заключить новый договор для Европы на основе «достижений Сообщества» и подготовить Союз к последующим расшире-ниям1. Достижение поставленной цели планировалось путем реализации принципа «углубленного сотрудничества», в том числе применительно к третьей опоре. Отмена проверки людей на внутренних границах являлась одной из главных целей Сообщества, которая не была введена после окончания строительства единого рынка 1 января 1993, как запланировано. Эта цель была частично достигнута вне структуры Европейского союза с принятием Шенгенских соглашений. Амстердамским договором провозглашалось превращение Европейского союза в пространство свободы, безопасности и правосудия, в котором свободное движение лиц обеспечивается вместе с соответствующими мерами в отношении контроля на внешних границах, иммиграции и т. д.
Главным условием создания европейского пространства была названа необходимость распространения компетенции Сообщества на такие сферы внутренних дел и правосудия, как иммиграционная политика, порядок пересечения внешних границ и др. С этой целью была проведена интеграция Шенгенских достижений в юридический и институциональный механизм первой опоры. С этого момента Шенгенские достижения стали неотъемлемой частью правового механизма
Европейского союза2. Таким образом, 1 мая 1999 г. открылся новый, современный этап в развитии Шенгенских соглашений.
Через Шенгенскую систему к этой части механизма первой опоры присоединились Норвегия и Исландия, не являющиеся членами ЕС. Но в то же время три государства-члена – Великобритания, Ирландия и Дания получили право не участвовать в новой системе и сохранить полный суверенитет в вопросах, касающихся формирования пространства свободы, безопасности и правосудия, что явилось проявлением механизма углубленного сотрудничества, установленного договором3. Но наличие особых отношений с данными государствами, безусловно, не могло не осложнять осуществление общей иммиграционной и визовой политики.
Амстердамский договор перевел в первую опору – под юрисдикцию Сообщества – меры в области иммиграции и убежища, прав граждан третьих стран, внешнего пограничного контроля, получения виз, административного сотрудничества в перечисленных областях и судебного сотрудничества в гражданских вопросах. В рамках третьей опоры остались полицейское сотрудничество и судебное сотрудничество в преступных вопросах, включая действия против расизма и ксенофобии и нарушений в отношении детей.
Частичная коммунитаризация третьей опоры привела к введению юридически обязательных мер и стала одним из самых важных новшеств Амстердамского договора. Наднациональные юридические инструменты получили приоритет над национальным законодательством, в результате чего институты ЕС получили возможность влиять на формирование иммиграционной политики. Следствием вносимых изменений стал тот факт, что с вступлением в силу 1 мая 1999 г. Амстердамского Договора иммиграционная политика вошла в компетенцию Европейского сообщества4. Перенос важных вопросов, касающихся свободы пере- движения граждан третьих стран из третьей опоры в первую, показывает, что государства-члены решили совместно использовать свой суверенитет в этом вопросе.
В договоре были зафиксированы достижения Союза – принятые по данному вопросу нормативные акты, гарантирующие свободное передвижение и проживание в любом из государств-членов граждан Европейского союза – как трудящихся, так и безработных. Работая на территории одного из государств – членов ЕС, они также имели право остаться там после завершения трудовой деятельности1.
Принятый договор содержал более четкие ориентиры в осуществлении миграционной политики в отношении граждан третьих стран и возлагал на Совет ЕС определенные полномочия по реализации поставленных задач. В течение установленного пятилетнего транзитного периода после вступления в силу Амстердамского договора Совет должен был принять меры, касающиеся иммиграционной политики в следующих вопросах:
– отмена всех видов контроля над передвижением граждан как Союза, так и третьих стран при пересечении внутренних границ;
– меры, касающиеся пересечения внешних границ, включая стандарты и процедуры пограничного контроля, а также визовый вопрос;
– предоставление гражданам третьих стран права передвижения на территории государств-членов на срок не более трех месяцев;
– незаконная иммиграция и незаконное проживание, включая репатриацию незаконных резидентов;
– условия въезда и проживания, а также стандартные процедуры выдачи государствами-членами долгосрочных виз и видов на жительство, включая по линии воссоединения семей;
– меры, определяющие права и условия, при которых граждане третьих стран, легально проживающие в одном государстве-члене, имели право поселиться в других государствах-членах.
Вместе с тем в соглашении приветствовалось сохранение или введение государствами-членами новых национальных норм, не противоречащих данному догово ру и междун ародным соглашениям2.
Принятие этих направлений деятельности иллюстрирует возросшее понимание между государствами-членами, а также между ними и европейскими институтами вопроса о том, что при столкновении с межнациональными вызовами, представляемыми миграционными движениями, должен применяться принцип солидарности. А при реализации предложенных мер необходимо использовать рабочие методы, которые уже доказали свою ценность, например в Шенгенском контексте. Из полученного Шенгенского опыта государства-члены извлекли пользу, и прогресс, достигнутый через сотрудничество в Шенгенской структуре, оказался особенно подходящим при решении вопросов, касающихся краткосрочного проживания не граждан Евросоюза, борьбы против незаконной иммиграции, а также контроля на внешних границах.
Необходимо отметить, что при подго-товкеквступлениювсилуАмстердамского договора в течение всего 1998 года шли интенсивные и довольно трудные переговоры. Главными были проблема определения и инкорпорирования Шенгенских достижений в Амстердамский договор и трудности в обсуждении приоритетов в области правосудия и внутренних дел.
Вместе с тем с момента включения иммиграционной политики в компетенцию Европейского союза она не перестала являться вопросом межправительственной координации. На практике недавно коммунитаризированные проблемы иммиграционной политики сохранили сильные межправительственные особенности: доминировало принятие единодушных решений, оставались ограниченными право инициативы Комиссии ЕС, а также роль Европейского парламента в процессе формирования единой миграционной политики ЕС. В результате по крайней мере в течение переходного периода это был некий гибрид между наднациональными и межправительственнымиметодами. Только после пятилетнего переходного периода процедура стала более коммунитарной, то есть решения принимались Советом квалифицированным большинством и в соответствии с процедурой совместного принятия решений с Европейским парламентом.
Таким образом, структура управления областью правосудия и внутренних дел представляла собой специальный режим, основанный на сочетании над- ных и межправительственных инструментов и весьма отличающийся от управления Евросоюзом другими областями политики, особенно из-за высокой степени гибкости.
Ограничение иммиграции часто аргументировалось осуществлением прав национальных государств на самозащиту. В выступлениях должностных лиц сообщества логика политики исключения, проводимая в отношении граждан третьих стран, была представлена как усиление безопасности: исполнение законов против иммигрантов, как утверждалось, было продиктовано потребностью со стороны Союза выполнить свои обязательства перед собственными гражданами.
Однако эта стратегия действовала только при формировании политики в отношении граждан третьих стран. Условия Договора ЕС о свободе передвижения лишили государства-члены любой власти на ограничение движения граждан Сообщества. В результате, тогда как иммиграционная политика в отношении внутренних иммигрантов становилась все более либеральной и экспансионистской из-за активности институтов ЕС и подхода, основанного на праве свободного передвижения, иммиграционная политика в отношении внешних иммигрантов оказалась все более ограничительной.
Амстердамский договор установил широкую сферу деятельности в области формирования единого пространства свободы, безопасности и правосудия. В декабре 1998 г. на Венском саммите ЕС была одобрена программа действий по ее созданию. Для определения приоритетов и точной повестки дня, а также получения возможности полностью реализовать действия, обеспеченные договором, государства-члены приняли к реализации План действий. Представленный план содержал рекомендации по осуществлению положений Амстердамского договора в области свободы, безопасности и правосудия, что положило начало реализации идеи общего европейского пространства. Приоритетным направлением было объявлено улучшение обмена статистическими данными и информацией, касающейся иммиграции и убежища. Такой обмен включал статистику по проблемам иммиграции и убежища, информацию, касающуюся статуса граждан третьих стран, национального законода- тельства и политики, проводимой на основе Плана действий Совета и комиссии1.
В рамках развития общей иммиграционной политики и предоставления политического убежища был выявлен ряд ключевых областей: партнерство со странами происхождения, общая европейская система убежища, справедливое обращение с гражданами третьих стран, более эффективное управление миграционными пото-ками2. В целом Европейский совет признал, что Европейский союз нуждается во всестороннем подходе к миграции, обращаясь к политическим правам человека и проблемам развития в странах происхождения и транзита. Общая миграционная политика ЕС должна базироваться на оценке экономических и демографических событий в рамках Союза, а также анализе ситуации в странах происхождения.
Таким образом, во-первых, с принятием Амстердамского договора и определением практики его применения в ходе саммита в Тампере Европейский союз перешел к модели надгосударственного регулирования и управления в одной из важнейших сфер внутренней политики своих государств-членов – вопросах миграции. Во-вторых, данный опыт получил свое развитие не только на уровне высшей политической координации миграционной политики, но и в повседневной практике управленческих структур государств Евросоюза. В-третьих, формирование единой внешней границы и единой миграционной политики в ЕС привело к тому, что общие контуры ЕС как надгосударственного интеграционного образования стали более зримыми и очевидными.
Немаловажно и то, что опыт Европейского союза может послужить примером и для России. Поскольку Россия в настоящее время также сталкивается с проблемой миграции и ищет пути ее эффективного регулирования, то уже достигнутые наработки Европейского союза в этой сфере могут быть полезны и для российской госу дарственной политики.