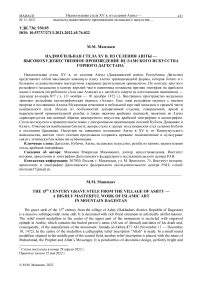Надмогильная стела XV в. из селения Ашты - высокохудожественное произведение исламского искусства Горного Дагестана
Автор: Маммаев М.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Надмогильная стела XV в. из селения Ашты (Дахадаевский район, Республика Дагестан) представляет собой массивную каменную плиту слегка трапециевидной формы, которая богато и с большим художественным мастерством украшена растительным орнаментом. По контуру круглого рельефного медальона в центре верхней части памятника помещена врезная эпитафия на арабском языке с именем погребённого (Али сын Ахмада) и с датой его смерти (и изготовления памятника) - джумада ал-ахира 877 г.х. (11 ноября - 10 декабря 1472 г.). Внутреннее пространство медальона занимает рельефная каллиграфическая надпись «Аллах». Еще одна рельефная надпись с именем пророка и посланника Аллаха Мухаммада помещена в небольшой круглый медальон в средней части центрального поля. Исходя из особенностей декоративной отделки, совершенной, яркой и выразительной орнаментальной резьбы, а также наличия арабских надписей, памятник из Ашты характеризуется как ценный образец камнерезного искусства, арабской эпиграфики и каллиграфии. Стела исследуется в сравнительном плане с синхронными памятниками селений Кубачи, Дацамаже и Кумух. Отмечается наибольшая близость декора стелы к декору мусульманских стел селения Кубачи и поселения Дацамаже. Несмотря на зависимое положение Ашты в XV в. от Казикумухского шамхальства, жители этого селения продолжали сохранять прежние экономические и культурные связи с этнически близкими им кубачинцами.
Дагестан, кубачи, ашты, исламское искусство, резьба по камню, надмогильная стела, арабская эпиграфика
Короткий адрес: https://sciup.org/14124749
IDR: 14124749 | УДК: 736, | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.45.76.022
Текст научной статьи Надмогильная стела XV в. из селения Ашты - высокохудожественное произведение исламского искусства Горного Дагестана
Селение Ашты Дахадаевского района, расположенное в 52 км от райцентра Уркарах, в верховьях реки Уллу-чай (тюрк. — «Большая река»), является одним из древних дагестанских горных аулов. В средние века оно входило в государственное образование Зирихгеран (перс. — «кольчужники»), которое, по данным раннесредневековых арабских авторов ал-Белазури (ок. 820—892 гг.), ал-Йакуби (ум. в 897 г.) и ал-Масуди (ум. в 956 г.), являлось «владением» или «царством» (Маммаев 2005: 35—36). По материальной и духовной культуре и языку аштынцы являются наиболее близкими к жителям с. Кубачи (после жителей сел. Сулевкент) этнической группой даргинцев.
Представляет интерес предание, записанное в сел. Кубачи известным этнографом-кавказоведом Е.М. Шиллингом. Судя по нему, аштынцы являются переселенцами из Анчибачи (где в средние века — небольшое поселение, расположенное в 3 км юго-западнее Кубачи), мигрировавшими в результате столкновений с кубачинцами. Жители Ашты в то время приняли ислам, а кубачинцы оставались христианами (Шиллинг 1949: 7). «Воспоминания об этом, — пишет Е. М. Шиллинг, — нашли след в известной кубачинской поговорке: «Аштынцы из Анчибачи убежали, лошадей подковы задом наперед повернув, ночью» (Шиллинг 1949: 7).
Впервые сел. Ашты упоминается в арабоязычном памятнике эпиграфики Дагестана XI— XII вв. (Лавров 1980: 18, 28). После распада государственного образования Зирихгеран (Маммаев 2012: 41—43) селение Ашты стало на некоторое время самостоятельным независимым населенным пунктом. Однако вскоре, в XIV—XV вв., оно было подчинено Казикумухскому шамхальству. По данным Л.И. Лаврова, в XIV в. селение Ашты платило ему харадж (Лавров 1976: 217). «В окончательной исламизации аштынцев активную роль играл Бадр-Шамхал Казикумухский, — пишет А.Р. Шихсаидов, — с этой целью построивший мечеть в сел. Ашты и пообещавший освободить зирихгеранцев1 от уплаты хараджа после окончательного перехода в ислам» (Шихсаидов 1984: 375). В середине XIV —XV вв., судя по арабоязычным памятникам эпиграфики, ислам в Ашты укрепился прочно (Шихсаидов 1984: 373—377, рис. 141). Это находит подтверждение и в декоративной отделке надмогильных памятников, среди которых выделяется трапециевидной формы массивная каменная плита, изготовленная из одного из твердых сортов местного мелкозернистого серого песчаника (рис. 1—3).
МАИАСП № 13. 2021
Надмогильная стела XV в. из селения Ашты — высокохудожественное произведение исламского искусства …
Рассматриваемый памятник привлекал внимание ряда ученых. Краткое описание его опубликовал в монографии «Резьба по камню в Дагестане» искусствовед П.М. Дебиров. Он неверно датировал памятник XVII в. (Дебиров 1966: 148, 166, рис. 134). Фотографию этой надмогильной стелы без описания опубликовала искусствовед Э.В. Кильчевская в книге «От изобразительности к орнаменту». Она также ошибочно датировала его XVII в. (Кильчевская 1968: 170, рис. 110). Впоследствии востоковед Л.И. Лавров дал перевод арабской надписи на рельефном круглом медальоне в верхней части центрального поля стелы (рис. 3): «Умер обладатель этой могилы несчастный и юный Али б. Ахмад в понедельник, в новолуние джумада-л-ахира восемьсот семьдесят седьмого года от хиджры». Джумада-л-ахира 877 г.х. согласно автору, соответствует 3.XI—1.XII.1472 г. (Лавров 1980: 46). Немного позже А.Р. Шихсаидов привел свой, более точный, перевод надписей на этой стеле: «[Еще] юношей скончался хозяин этой могилы прощеный Али сын Ахмада [в] понедельник [месяца] джумада ал-ахира восемьсот семьдесят седьмого года хиджры». В датировку памятника исследователем вкралась заметная техническая ошибка: в публикации джумада ал-ахир 877 г.х. соответствует 3.IX.1472 — 1.XII.1473 г. (Шихсаидов 1984: 91—92). Позволим себе уточнить приведенную на стеле дату: джумада ал-ахира 877 г.х. приходится на период с 11 ноября по 10 декабря 1472 г.
Фотография рассматриваемой надмогильной плиты из Ашты была опубликована и в первом томе двухтомной «История Дагестана с древнейших времен до наших дней» (История Дагестана 2004: 300). При публикации памятника орнамент его центрального поля ретуширован, вследствие чего были несколько искажены детали декора, слабо различимы бордюрные орнаментальные композиции, а врезная круговая арабская надпись на ленте крупного медальона и рельефная надпись «Мухаммад» на небольшом медальоне в средней части памятника оказались неразличимыми. Памятник был неверно датирован XIV веком (История Дагестана 2004: 300).
Несколько подробнее, чем в работах отмеченных выше исследователей, надмогильная стела из Ашты описана мной в монографиях «Декоративно-прикладное искусство Дагестана. Истоки и становление» (Маммаев 1989: 107, 304, рис. 184) и «Искусство Зирихгерана-Кубачи XIII—XV вв. и его место в системе художественных культур Востока и Запада» (Маммаев 2014: 194—195, 502, рис. 159). В датировке памятника в монографии 1989 г. была допущена неточность: он должен быть датирован не 879 г.х. (Маммаев 1989: 107), а приведенной выше датой 877 г.х.
Памятник из Ашты в искусствоведческом плане специально не изучался. Во всех перечисленных выше публикациях декоративная отделка памятника подробно не рассмотрена, стела не исследована как высокохудожественное произведение исламского искусства. В большинстве случаев в указанных публикациях стела датирована не точно, а качество ее воспроизведения низкое.
В данной статье дается более полное описание памятника, приводятся новые наблюдения об особенностях его декоративного оформления отделки, проводится сопоставление его декора с орнаментацией синхронных памятников селений Кубачи, Дацамаже и Кумух. В 2007 г. с памятника мной был снят эстампажный отпечаток, точно оконтурены орнаментальные композиции и арабские надписи.
Памятник находится на сельском кладбище сел. Ашты, примерно в 20 м южнее мавзолея шейха «Шайхла хъал» (в пер. — «Дом шейха»). Сохранность стелы хорошая. Орнаментация центрального поля вместе с пятичастной пальметтой в середине его верхнего конца, полупальметты на верхних боковых углах, а также внешние края лицевой стороны плиты покрашены местными жителями белой краской. Высота декорированной части памятника
МАИАСП № 13. 2021
148 см, ширина в верхней части 98 см, внизу 82 см, толщина 7 см. Около 6 см декорированной части нижнего конца плиты находятся ниже уровня современной дневной поверхности.
По верхнему и боковым краям лицевой грани плиты располагается широкая орнаментальная полоса с закругленным верхом, образующая как бы высокую полуциркульную арку (рис. 1, 2). Орнамент полосы представляет собой волнистый побег стебля со спирально скрученными ответвлениями сложного переплетения, которые завершаются изящными трилистниками и полутрилистниками. Упругость линий стебля и его ответвлений, равномерное распределение листков, трилистников и полутрилистников, кружочков на стеблях, последовательное и ритмичное чередование основных элементов узора и спирально скрученных ответвлений делает всю орнаментальную композицию четкой, ясной и весьма выразительной и завершенной, равномерно заполняющей все пространство полосы. Достаточно высокий рельеф резьбы при равномерности толщины тонких линий стебля и ответвлений придает этой орнаментальной полосе особую ажурность и легкость.
Центральное поле плиты занято рельефными медальонами и полумедальонами различных форм и размеров, размещенными по вертикали. В верхнем круглом медальоне с заостренным верхом находится рельефная арабская надпись «Аллах» (рис. 1—3), выполненная несколько ассиметрично, чуть наклонно крупными, орнаментально проработанными буквами. Высокие линии букв венчают декоративные трилистники, а по бокам надписи расположено по паре соединенных между собой полутрилистиков, заполняющих свободное внутреннее пространство медальона и обращенных вершинами вверх и вниз. В центре медальона поверх надписи «наложена» горизонтально лежащая «восьмерка». На круговую ленту медальона нанесена исполненная тонким врезным почерком насх графическая арабская надпись—эпитафия, перевод которой был приведен выше. Описанный крупный медальон опирается на ствол, который имеет в средней части по бокам два килевидных листка и основанием опирается на четырехчастный «узел вечности» («узел счастья»).
Выше медальона с надписью «Аллах» располагается пятичастная пальметка, которая делит широкую бордюрную полосу на две равные части, что придает орнаментальной композиции зеркальную симметрию. Однако симметрия эта относительная, так как правая и левая части ее полностью не совпадают. Это обусловлено, очевидно, тем, что орнаментальная композиция выполнялась мастером—камнерезом без применения трафарета. Об этом свидетельствует разница, хотя и незначительная, в периодически, ритмично повторяющихся элементах орнамента (листочки, завитки, трилистники, полутрилистники и т.д.) и частей стеблей. При выполнении орнамента от руки мастер мог допускать отдельные мелкие отклонения в выполнении одних и тех же узорных элементов. По всему видно, что выполнивший резьбу памятника камнерез был опытным и высокопрофессиональным мастером, в совершенстве владеющим умением составлять орнаментальные композиции сложной структуры.
В средней части центрального поля в маленьком круглом с заостренным верхом медальоне заключена рельефная арабская надпись «Мухаммад», выполненная стилизованными и декоративно трактованными буквами (рис. 1—2). Этот медальон также опирается на прямой ствол, имеющий в средней части утолщение, а в нижней — симметрично расположенные по его бокам ажурные трилистники и широкое килевидное основание с пятичастной (?) пальметтой, обращенной вершиной вниз.
МАИАСП № 13. 2021
Надмогильная стела XV в. из селения Ашты — высокохудожественное произведение исламского искусства …
Описанные медальоны со стволами, образующие декоративную центральную ось стелы, по бокам имеют крупные, широкие, гладкие попарно соединяющиеся рельефные полупальметты, примыкающие к тонко декорированной, ажурной полосе с полукруглым верхом, оконтуривающей стелу. Это придает особую контрастность и выразительность всей орнаментальной композиции памятника. Декор плиты основан на контрасте крупных орнаментальных элементов и медальонов центрального поля и мелкой узорной резьбы широкой бордюрной полосы.
Фон центрального поля фактурно обработан точками. В верхних боковых углах стелы помещены крупные элементы растительного орнамента — соединенные между собой полупальметты.
Описанный артефакт, а также другие памятники из сел. Ашты, при определенной их близости как в формах, так и в художественной отделке к надгробиям селений Кубачи, Дацамаже, Кумух, обладают чертами локального своеобразия, которые проявляются в общем характере их декоративной отделки, принципе орнаментальной проработки декоративных надписей, в несколько измельченной резьбе сложных орнаментальных композиций и т.д. Очевидно, что в сел. Ашты в эпоху средневековья существовал самостоятельный и развитый очаг художественной резьбы по камню.
Художественная отделка аштынского памятника обнаруживает определенную близость к памятникам XV в. селения Кубачи и поселения Дацамаже (Маммаев 2017: 65, 71, рис. 3, 10; Маммаев 2018: 68, 70, рис. 10, 12). Она проявляется в формах самих стел — вертикально уставленных у изголовья погребенных плит трапециевидной формы, в орнаментальных композициях бордюрных полос, в размещении круглых медальонов с заключенной в них арабской надписью «Аллах» в верхней части центрального поля, а также полупальметт в верхних боковых углах памятников. Орнамент в центре верхнего конца бордюрной полосы аштынского и кубачинских памятников разделен на две симметричные половины пятичастной пальметтой.
Прослеживаются и различия в декоре памятников, особенно в декоре центральных полей. Аштынская стела украшена более крупным орнаментом, чем кубачинские памятники (Маммаев 2017: 71—72, рис. 10, 11). Кроме того, кубачинские надгробия XV в. в большинстве своем по верхнему и боковым краям отделаны рельефными позднекуфическими декоративно исполненными надписями, выполненными на фоне растительного орнамента в виде волнистого побега стебля со спирально скрученными ответвлениями, несущими листики, трилистники, полутрилистники и т.д.
В меньшей степени, чем к кубачинским памятникам, близок декор изучаемого артефакта к декору надгробий XV—XVI вв. из сел. Кумух (Лавров 1980: рис. 1). Некоторая общность проявляется в формах таких монументов, а также в отделке бордюрных полос растительным орнаментом. Но структурно орнамент аштынской стелы значительно отличается от орнамента кумухских памятников.
На кладбище сел. Ашты, примерно в 12—13 м к северо-востоку от рассмотренного памятника, поставленного на могилу юноши Али сына Ахмада, имеется еще массивная трапециевидной формы надмогильная стела высокохудожественной отделки растительным орнаментом. Она сильно заросла грибком, вследствие чего ее декор стал плохо различим. Почистить памятник от грибка и снять с него эстамп, к сожалению, не было возможности.
Основная масса средневековых надмогильных памятников сел. Ашты отделаны посредственно. В художественном отношении они существенно уступают памятнику 877 г.х. Орнамент на них более крупный, выполнен без соблюдения общепринятых правил, стебли не гибкие, косые, извиваются не плавно, орнаментальные элементы — листики,
МАИАСП № 13. 2021
полутрилистники, трилистники, полупальметты — не соразмерны между собой (рис. 4), а форма их не совсем правильная.
Врезная арабская надпись на стеле из Ашты, по содержанию несколько близкая к надписям на надмогильных памятниках XVI в. из Кумуха (Маммаев 2021: 976—977), наводит на мысль — не являлся ли юноша Али сын Ахмада, погибшим в походе газиев против «неверных», организованном гази-кумухским шамхалом? Но в эпитафии не сообщается, участвовал ли он в джихаде. Зато ясно, что умерший не был шахидом. Тем не менее, с учетом того, что на могиле юного Али был поставлен такой крупный памятник с великолепной художественной отделкой, и, имея ввиду территориальную близость Ашты к Кумуху, а также политическую и экономическую зависимость аштынцев от его правителей, можно предполагать, что ими мобилизовались молодые мужчины из зависимых населенных пунктов. Но несомненно, что рассмотренный памятник, выделяющийся своим исключительно изысканным декоративным исполнением, подчеркивает неординарный, высокий прижизненный социальный статус погребенного под ним в 1472 г. юноши Али сына Ахмада.
Описанная надмогильная стела из Ашты, как и памятники из Кубачи и Кумуха (Маммаев 2017: рис. 10, 11; 2021: 973—982, рис. 1—3), является оригинальным памятником искусства резьбы по камню и высокохудожественным произведением исламского искусства средневекового Дагестана.
Список литературы Надмогильная стела XV в. из селения Ашты - высокохудожественное произведение исламского искусства Горного Дагестана
- Дебиров П.М. 1966. Резьба по камню в Дагестане. Москва: Наука.
- История Дагестана 2004: Османов А.И. (ред.). 2004. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 1. История Дагестана с древнейших времен до ХХ века. Москва: Наука. Кильчевская Э.В. 1968. От изобразительности к орнаменту. Москва: Наука.
- Лавров Л.И. 1976. Новое о Зирихгеране и казикумухских шамхалах. Из истории дореволюционного
- Дагестана. Сборник статей. Махачкала: ИИЯЛ ДагФАН СССР. Лавров Л.И. 1980. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 3. Надписи X—XX вв. Москва: Наука.
- Маммаев М.М. 1989. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. Истоки и становление.
- Махачкала: Дагкнигоиздат. Маммаев М.М. 2005. Зирихгеран-Кубачи. Очерки по истории и культуре. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН. Маммаев М.М. 2014. Искусство Зирихгерана-Кубачи XIII—XV вв. и его место в системе художественных культур Востока и Запада. Махачкала: Эпоха.
- Маммаев М.М. 2017. Симметрия и асимметрия в формах и декоративной отделке мусульманских надмогильных памятников XIV—XV вв. из с. Кубачи. Вестник Института истории, археологии и этнографии 4, 54—73.
- Маммаев М.М. 2018. Памятники камнерезного искусства и арабской эпиграфики XIV—XV вв. поселения Дацамаже. История, археология и этнография Кавказа. Т. 14. № 2, 50—71.
- Маммаев М.М. 2021. Стела XVI в. из с. Кумух — высокохудожественное произведение исламского искусства. МАИАСП 13, 973—982.
- Шиллинг Е.М. 1949. Кубачинцы и их культура. Историко-этнографические этюды. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Шихсаидов А.Р. 1984. Эпиграфические памятники Дагестана X—XVII вв. как исторический источник. Москва: Наука.