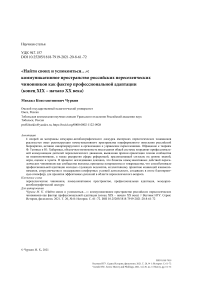«Найти своих и успокоиться…»: коммуникативное пространство российских переселенческих чиновников как фактор профессиональной адаптации (конец XIX – начало XX века)
Автор: Михаил Константинович Чуркин
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
С опорой на материалы мемуарно-автобиографического дискурса имперских переселенческих чиновников реализуется опыт реконструкции коммуникативного пространства пореформенного поколения российской бюрократии, активно инкорпорируемого в организацию и управление переселениями. Обращение к теориям Ф. Тенниса и Ю. Хабермаса, обеспечило возможность воссоздания общей системы координат профессиональной коммуникации деятелей переселенческого движения, выявления причин ориентации членов сообщества на взаимопонимание, а также раскрытия сферы референций, предполагавшей согласие на уровне знаний, норм, оценок и чувств. В процессе исследования доказано, что базисом коммуникативных действий переселенческих чиновников как сообщества являлись принципы патернализма и товарищества, что способствовало профессиональной адаптации молодых служащих ведомства, коллективному принятию конвенций взаимопонимания, сотрудничества и поддержания комфортных условий деятельности, создавших в итоге благоприятную атмосферу для принятия эффективных решений в области переселенческого вопроса.
Переселенческие чиновники, коммуникативное пространство, профессиональная адаптация, мемуарно-автобиографический дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/147234670
IDR: 147234670 | УДК: 947.157 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-8-61-72
Текст научной статьи «Найти своих и успокоиться…»: коммуникативное пространство российских переселенческих чиновников как фактор профессиональной адаптации (конец XIX – начало XX века)
Churkin M. K. “Find Your Own and Feel Comfortable…”: Communicative Space of Russian Officials of the Resettlement Administration as a Factor of Professional Adaptation (Late 19th – Early 20th Century). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 8: History, pp. 61–72. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-861-72
Образ российского чиновничества периода империи в общественном мнении современников и отечественной историографии всегда характеризовался некоторой одномерностью и конструировался тенденциозно. Чиновничество, ставшее в XIX столетии основным инструментом реализации правительственных (промонархических) установлений и консолидированным социальным слоем, в политически ангажированной ситуации российской действительности эпохи либеральных реформ 1860–1870-х гг. воспринималось не только в качестве послушных исполнителей и трансляторов государственной воли, но и олицетворяло худшие черты национальной бюрократической традиции, иллюстрирующие стандартное представление о чиновниках как взяточниках, казнокрадах, мздоимцах, «крапивенном» семени, – т. е. чем-то чуждым, не имеющим корней [Богданов, 2011].
Конвенционально негативный образ чиновничества закреплялся в российском обществе имперского периода и транслировался усилиями русской классической литературы, не только отражавшей социальную действительность, но и выполнявшей функцию гуманитарного осмысления реальности, являясь мощным агентом влияния на массовое сознание [Кондаков, 1997, с. 101]. В сочинениях Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и, главным образом, М. Е. Салтыкова-Щедрина российский чиновник постепенно превращался в предмет сатирического изображения. В художественном дискурсе М. Е. Салтыкова-Щедрина образ чиновничества воспроизводился при помощи следующих негативно окрашенных эпитетов: «сие от меня не зависит», «в деле административной репутации от первого шага зависит всё будущее администратора», «всё в мире волшебство от начальства происходит», «дозволяется при встрече с начальством вежливыми и почтительными телодвижениями выражать испытываемое при сем удовольствие», «какой наилучший способ выразить доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?» 1.
Тенденция, в соответствии с которой необратимо рушился патриархальный уклад, отмечалась в конце XIX – начале XX в. общественно-политическими деятелями консервативного толка. Так, В. В. Розанов, констатируя факт деградации русской литературы, писал: «…в то время как “Что делать” Чернышевского пролетело молнией над Россиею, многих опалив и ничего, в сущности, не разрушив, “Отцы и дети” Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того, как были прокляты пампушки у Гоголя и Гончарова… администрация у Щедрина … и история (“История одного города”), купцы у Островского, духовенство у Лескова… и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек» [Розанов, 2000, с. 348].
Следует отметить, что нормативность отрицательных характеристик имперского чиновничества, закрепленная в общественно-политических дискуссиях пореформенной эпохи, фиксируемая на страницах художественных текстов и очерковой публицистики, сделалась неотъемлемой частью историографического дискурса второй половины XIX и большей части XX в., став своеобразным «золотым стандартом» в оценке облика, стратегий и практик социального поведения российской бюрократии.
В современной историографии история российского чиновничества по-прежнему остается в локусе исследовательского интереса историков [Морякова, 1993; Иванов, 1994]. Наряду с обращением авторов к традиционным сюжетам выявления численности чиновников, характеристики их образовательного ценза и правового статуса происходит постепенный дрейф к историко-антропологической рефлексии чиновничества в контексте осмысления образов социальных групп и локальных сообществ России дореволюционного периода. В частности в трудах последних десятилетий чиновничество позиционируется как социокультурный феномен, что свидетельствует о подъеме исследовательского интереса к повседневным практикам государственных служащих, заметное место в которых занимали сферы семейных и товарищеских отношений, коммуникативные контакты служебного и внеслужебного характера [Матханова, 1998; Родигина, 2003; Фролова, 2006; Суворова, 2017]. Данный процесс оказался во многом связан с методологической революцией в исторической науке и антропологическим поворотом в гуманитаристике, значительным обновлением теоретического инструментария историков, расширением и принципиально иными моделями интерпретации источников, в том числе эго-текстов, являющихся не столько резервуаром информации, сколько транслятором личных ощущений автора, субъективной оценки событий, их индивидуальных переживаний.
Тем самым обращение к мемуарно-автобиографическому дискурсу российских переселенческих чиновников как очевидцев и участников событий представляется важным по ряду оснований.
Во-первых, конструирование образа российского чиновничества, его репрезентации в публицистике, литературе, историографии и трансляция в массовом сознании, происходившие в течение XIX столетия, не только условны, но часто находятся в прямом противоречии с действительностью. Схематический «портрет» российского имперского чиновника с преобладающими в нем нелицеприятными характеристиками во многом явился продуктом эпохи научно-технического прогресса с присущим ему высоким темпом распространения информации, часто игнорирующей мнения непосредственных акторов исторического процесса, выдающей желаемое за действительное.
Во-вторых, необходимо учитывать, что корпус переселенческих чиновников в императорской России, начал формироваться только в конце XIX в., когда крестьянские миграции на восточные окраины страны стали массовыми, а организация «переселенческого дела» приобрела отчетливый абрис государственной политики. Именно переселенческие чиновники могут рассматриваться в качестве новой генерации пореформенной бюрократии, выпадавшей из сконструированных либеральной публицистикой и литературой формул и представлений. Внимательное вчитывание в эго-тексты чиновников Переселенческого управления, в частности воспоминания представителей «второго эшелона» государственной элиты России В. Ф. Романова и А. А. Татищева (Романов, 2012; Татищев, 2001), позволяет сделать вывод, что данная категория администраторов относилась к пореформенному поколению, вступившему в фазу интеллектуальной и профессиональной зрелости на рубеже XIX–XX вв., когда сложились модели адаптации дворянства к новой экономической, политической и социокультурной ситуации модерна эпохи Великих реформ 1860–1870-х гг. Будучи носителями измененного этоса дворянского сословия, представители этого поколения оказались неплохо образованы, свободны от сословных предрассудков и свойственных значительной части дворянства ностальгических воспоминаний о дореформенных временах и сопутствовавших им сословных привилегиях.
В-третьих, совершенно очевидно, что стереотипизированно-негативный образ российского чиновничества складывался без учета субъектами репрезентаций многоуровневой среды обитания представителей локальной группы: служебного и внеслужебного сегментов коммуникативного пространства, в границах которого продолжалось личностное становление чиновников, кристаллизовалась сословная и формировалась профессиональная идентичность.
Следует также обратить внимание, что выбор источников, привлеченных к исследованию, обусловлен принадлежностью В. Ф. Романова и А. А. Татищева к социальной группе со сходными образцами социализации и общими ценностными структурами, определившими не только узкопрофессиональную, но и поколенческую идентичность. Ограничение спектра источников двумя масштабными текстами объясняется необходимостью создания общей исходной модели реконструкции коммуникативного пространства переселенческих чиновников, предполагающей возможности расширения источниковой базы в будущем.
В соответствии с положениями теории немецкого социолога Ф. Тенниса, идентичность сообщества определяется эмоциональной связью его представителей. С точки зрения Ф. Тенниса, связь, «собирающая» людей в рамках общности, является настолько естественной и органичной, что для обозначения подобного типа связи вполне допустимо использование термина «товарищество» [2002, с. 27].
Важно также понимать, что пространство коммуникации не может сложиться без общей системы координат, в границах которой акторы коммуникативной среды достигают конвенциональной договоренности, осуществляя, согласно логике Ю. Хабермаса, коммуникативное действие [Хабермас, 2000, с. 12]. Ученый, к кругу основных структурных элементов коммуникации относил ориентацию на взаимопонимание, ситуацию действия и речи, «фон жизненного мира» (исторический контекст), «сферы референций» (согласие на уровне знания, нормы, оценок и чувств) [Хабермас, 2000, с. 324–340].
Руководствуясь положениями «теории коммуникативного действия», можно утверждать, что точкой отсчета формирования общей системы координат профессиональной коммуника- ции будущих переселенческих чиновников являлась универсальная модель воспитания и образования в повседневной среде «дворянской усадьбы». Именно в детские и ранние юношеские годы в условиях семейного окружения закладывались фундаментальные основы этоса (системных нравственных конвенций и моральных устоев) государственных управленцев, усваивались и видоизменялись представления о самих себе, окружающем пространстве, народе, обществе, государстве.
-
А. А. Татищев – видный переселенческий чиновник, дослужившийся до должности помощника начальника Переселенческого управления (1917 г.), в своих воспоминаниях оставил описание периода детства и юношества, которое практически пропорционально разделилось между жизнью в обстановке родительского поместья в д. Беляницы и Полтавой, что было связано с должностными обязанностями его отца – выдающегося российского дипломата, уездного предводителя дворянства в Бежецке и полтавского губернатора (1892–1896 гг.) (Татищев, 2001, c. 9). Высокий статус отца в чиновничьей иерархии, явился важным фактором раннего знакомства А. А. Татищева с корпоративной средой высшей российской бюрократии. Так, на страницах мемуаров он особое внимание уделяет традиционным «парадным» завтракам у губернатора, в которых принимали обязательное участие местные администраторы, дети которых также присутствовали за столом (Татищев, 2001, с. 14). Кроме того, «детский мир» в имении и губернаторском доме предполагал довольно сложную и разноуровневую систему организации коммуникативного пространства, в которое включались не только представители титулованной аристократии, но и гувернеры, занимавшиеся воспитанием и образованием детей, а также многочисленная челядь, контакты с которой усложняли и разнообразили восприятие реального мира у дворянских детей. В мемуарах А. А. Татищева представлена целая галерея «народных» персонажей (скотницы, полотеры, лакеи, крестьяне), общение с которыми конкретизировало у молодых дворян понимание важности трудовой деятельности и этики, что находило выражение в весьма лестных эпитетах по отношению к низшим сословиям: «просыпаясь утром, я всегда слышал, как он (полотер Евгений. – М. Ч. ) натирал пол в столовой. А ведь это была работа не из легких»; «(лакей Василий. – М. Ч. ) честности был абсолютной» (Татищев, 2001, с. 22, 23). Тесный контакт с земледельцами, по признанию А. А. Татищева, воспитал в нем убеждение, «что для успеха хозяйства, необходима постоянная о нем мысль» (Татищев, 2001, с. 26).
-
В. Ф. Романов, чиновник, служивший в Земском отделе МВД (1898–1901 гг.), Управлении водных и шоссейных путей (1901–1906 гг.), Переселенческом управлении (1906–1914 гг.) и оставивший яркие воспоминания о своей жизни и профессиональной деятельности, также делал акценты на раннем периоде биографии. Среда, в которой происходило становление личности В. Ф. Романова, во многом совпадала с условиями детских лет А. А. Татищева: повседневность помещичьей усадьбы (владение матери), прямой контакт с природным окружением и т. д. Однако, принадлежа к категории мелкопоместного дворянства и являясь сыном чиновника средней руки, будущий деятель переселенческого движения, не был включен в коммуникативное пространство отцовских коллег по службе и в силу недостаточной состоятельности родителей не имел приглашенного воспитателя. На становление его личности, по утверждению самого В. Ф. Романова, решающее влияние оказала семейная обстановка, по преимуществу, женская среда (Романов, 2012, с. 7). Объясняя свои успехи на профессиональном чиновничьем поприще, Романов особо подчеркивал значимость ранней внутрисемейной коммуникации: «Практическая любовь ко мне бабушки, доставляемые этой любовью жизненные удобства, воспитывали мое моральное я с несравненно большим успехом, чем ожидавшая меня в будущем холодная прописная мораль различных учителей Закона Божьего, классных наставников и т. п.» (Романов, 2012, с. 8).
В данной связи предельно лаконичным и исчерпывающим видится определение самоидентичности, сформулированное чиновником В. Ф. Романовым в преамбуле своих воспоминаний: «Так как я, по своему воспитанию, образованию, служебным занятиям и знакомствам, наконец, даже по первоначально легкомысленному отношению к революционным событиям представляю из себя среднего, а следовательно, вполне типичного русского интеллигента – чиновника эпохи царя Николая II, то, мне кажется, мои личные, частью служебные, частью просто обывательские, воспоминания могут дать будущему историку или романисту, хотя и скромный, но не лишенный значения, материал для характеристики качеств и быта русского служилого класса этой, величайшей в истории России, эпохи. Современному же русскому обществу мои воспоминания напомнят о тех положительных качествах нашего Царского чиновничества, которые несправедливо и предвзято замалчивались нашей литературой и прессой и ценность которых неизменна при всяком государственном строе. Эти качества: любовь к человеку и сознательно-добросовестное исполнение принятых на себя обязанностей» (Романов, 2012, с. 5).
Формирование опыта коммуникативного действия будущих переселенческих чиновников продолжилось в период их лицейской (А. А. Татищев) и гимназическо-университетской (В. Ф. Романов) юности.
А. А. Татищев, окончил последовательно Училище св. Анны и Императорский Александровский Лицей (1906 г.), посвятив этому этапу в своих воспоминаниях лишь короткий текстовый фрагмент. Тем не менее, общеизвестно, что лицей, будучи привилегированным дворянским учебным заведением, априори ориентировал своих выпускников на сферу государственной службы, что способствовало складыванию особой коммуникативной атмосферы, сопровождавшей сосуществование учителей и учащихся. Основной особенностью лицейской образовательной системы являлась цельность и межпредметный характер программ обучения, их гуманитарно-юридическая направленность, что требовало тщательного подбора преподавательского состава. Немаловажным в формировании образовательного фона было стремление администрации к сохранению традиций, заложенных в первой половине XIX столетия и крайне негативное отношение к любым видам радикализма и революционной деятельности (Татищев, 2001, с. 32), что становилось ярко выраженным признаком социокультурной и политической идентичности выпускников лицея, способствовало активному включению в сообщество чиновников, быстрому карьерному росту.
Немаловажным фактором влияния лицейской образовательной среды являлась и ранняя специализация учащихся. К числу основных задач преподавательского коллектива относилось определение склонности воспитанников к тем или иным наукам и ее дальнейшее развитие. А. А. Татищев, проявив себя на гуманитарном поприще, обнаружил склонность к исследованиям историко-экономического характера, получив впоследствии медаль за сочинение «Переселения крестьян» (Татищев, 2001, с. 32). Сам мемуарист, комментируя свой выбор, писал: «В отношении лицеистов… выбор места службы предоставлялся самим воспитанникам. Лично мой выбор был сделан давно… Я выбрал по совету покойного Чебыкина “Переселения крестьян” и в процессе писания этого сочинения… подошел к этому вопросу довольно близко; вместе с тем надо помнить, что крестьянский и аграрный вопросы стояли в центре общего внимания» (Татищев, 2001, с. 33). Именно острота и актуальность аграрных проблем в России после революции 1905 г., по рассуждениям А. А. Татищева, стали определяющим мотивом в поступлении его на службу по ведомству Главного управления землеустройства и земледелия (Татищев, 2001, с. 34).
Гимназический и университетский периоды становления личности В. Ф. Романова пришлись на эпоху контрреформ (1883–1897 гг.), что оказалось рельефно обозначено в его мемуарно-автобиографическом дискурсе как время серьезных испытаний и проверки на прочность той системы нравственных ценностей, которая сложилась в ранние детские годы (Романов, 2012, с. 24–30). В процессе работы с текстом воспоминаний Романова, становится очевидным, что обучение в гимназии и университете стало этапом кризиса идентичности, сопровождавшегося непростым выбором адекватной этическим представлениям коммуникативной среды. В. Ф. Романов, описывая гимназическое время, неизменно отмечал те недостатки классического образования, которые приходили в очевидный конфликт с его мировоззрением, сложившимся в основном в «усадебный» период жизни, определяемые им как
«…подрыв в глазах учащихся авторитета власти, а также упадок религиозности, склонность к атеизму… на излечение от которого потребовался ряд долгих лет чтения и работы над собою» (Романов, 2012, с. 22–23). В конечном счете он приходит к следующему заключению: «Постепенно, по мере нашего возрастания, мы проникались мыслью, что окончание гимназии необходимо только как неизбежное зло, для получения права попасть в Университет, а главное – что вся гимназическая система придумана каким-то высшим начальством, нам враждебным» (Романов, 2012, с. 21).
Оказавшись на университетской скамье, В. Ф. Романов продолжает испытывать чувство дискомфорта, поскольку такие элементы системы нравственных ценностей В. Ф. Романова и людей его круга, включившихся впоследствии в государственную деятельности, как любовь к Отечеству, уважение к народу и преданность делу, именно в 1880–1890-е гг., в условиях университетской контрреформы, по-прежнему были подвержены испытаниям. Романов вспоминал, что в годы его студенчества министерские и университетские власти прилагали максимум усилий для ограничения всякой корпоративности в студенческой и преподавательской среде, что активно способствовало эскалации протестных настроений и действий со стороны политически ангажированной части учащихся. Тем не менее, В. Ф. Романов не мог не отметить, что радикальная модель поведения не являлась свойственной всему студенческому сообществу, в среде которого оформлялись разные модели коммуникативных действий и идентичности, что наглядно было им сформулировано на страницах автобиографического опуса: «Что касается, так сказать, внеучебной части университетской жизни, то часто бывшие студенты вспоминают об этом с большой любовью, вроде того, как институтки о своих подругах, увлечениях. Я же лично мои впечатления от этой стороны студенческой жизни могу определить только как самые отрицательные: сходки, манифестации, кружки – всё это возбуждало во мне неизменно отвращение, очевидно, как просто органически мне чуждое. Не останавливаясь на дальнейших подробностях, могу сказать одно, что студенческие организации сыграли для меня такую же роль, как гимназический формализм и лицемерие; гимназии я обязан был отвращением от религии и власти, студенчеству – от какого бы то ни было политиканствующего, в особенности утопического, либерализма, от партийной предвзятости. К концу четвертого курса я был уже консервативных политических убеждений и предполагал выбрать себе военную карьеру либо служить по Министерству Внутренних Дел» (Романов, 2012, с. 61).
Процесс включения и адаптации новоявленных государственных чиновников в корпоративное пространства российской бюрократии вообще и переселенческих ведомств в частности может быть оценен нами в смысловом поле элементов коммуникативных действий, обозначенных во вступительной части статьи.
А. А. Татищев и В. Ф. Романов практически идентично характеризуют «фон жизненного мира», культурно-исторический контекст начала своей служебной карьеры. Так, А. А. Татищев, объясняя стремление служить по ведомству МВД, подчеркивал на страницах мемуарной прозы, что окончание им лицея совпало по времени с перестройкой всего государственного механизма Российской империи, а начало работы первой Государственной думы всколыхнуло в обществе интерес к вопросам внутренней политики (Татищев, 2001, с. 33).
Старт профессиональной деятельности В. Ф. Романова во многом был задан сменой царствования конца XIX в., а также ожиданием либеральных реформ и конституции. Описывая историческую ситуацию, мемуарист отмечает всеобщее увлечение внутриполитическими вопросами, особо подчеркивая свое негативное отношение к способам их выражения: «Различные манифестации на улицах сопровождались обычно таким тупым озверением лиц у вожаков, такими грязными ругательствами, что уже одна внешняя стороны их возбуждала отвращение» (Романов, 2012, с. 60). В. Ф. Романов, оценивая важность внутренней политики и свою заинтересованность в решении злободневных государственных вопросов, ясно обозначает и собственную политическую позицию, сформировавшуюся под влиянием социально-политической ситуации: «У меня и моих товарищей было ощущение радости, что в Рос- сии новый Царь, о котором определенно тогда говорили, как о стороннике либеральных реформ, конституции. Но печаль масс и траурный вид города как-то нарушали эту радость; начинались сомнения, которым, под влиянием последующих событий в моей жизни, суждено было через несколько лет перебросить меня в другой, противоположный, лагерь сторонников самодержавия, которые независимо от той или иной их политической программы получили, кажется, в 1905 году огульное название черносотенцев» (Романов, 2012, с. 53).
Оценочные суждения мемуаристов совпадают и в характеристике конвенций, определявших вступление молодых бюрократов в профессиональное сообщество и, как следствие, коммуникативные отношения. Будучи представителями дворянского сословия, А. А. Татищев и В. Ф. Романов признавали важность такой корпоративной традиции, как протекция при служебном назначении.
-
А. А. Татищев откровенно писал, что при выборе места службы обычно руководствовались семейными традициями или наличием связей (знакомых) в том или ином учреждении; реже личными наклонностями (Татищев, 2001, с. 33).
-
В. Ф. Романов также склонен был полагать, что поступление на службу обязательно должно сопровождаться протекцией, заручившись которой можно добиться известного положения, сделать карьеру, хорошо жить и приносить пользу (Романов, 2012, с. 69). О своем личном карьерном старте он писал следующее: «В это время моя бабушка гостила у знакомых ее в Петербурге и писала мне, что И. Н. Дурново, бывший тогда Председателем Комитета Министров (серьезная протекция. – М. Ч. ), ее старый близкий знакомый, советует мне поступить в Переселенческое Управление; это учреждение только что было тогда сформировано и считалось в бюрократических кругах модным… веруя, как все, в силу рекомендательных писем, я через бабушку получил приглашение явиться к товарищу министра внутренних дел А. Д. Оболенскому, которому говорил обо мне И. Н. Дурново» (Романов, 2012, с. 70).
Функционирование служебного коммуникативного пространства переселенческих чиновников рубежа столетий реализовывалось в общей «сфере референций», предполагавшей согласие на уровне норм, знаний, оценок, чувств акторов локально-профессионального сообщества, что обеспечивало общую ориентацию на взаимопонимание. Ситуация согласия в группе переселенческих чиновников, близкая к состоянию товарищества, была обусловлена не только принадлежностью к сословию, общими обстоятельствами формирования нравственных устоев (этоса), о чем здесь уже говорилось, но и качественно иной социокультурной ситуацией пореформенного времени, когда в среду государственного управления России неуклонно стали проникать такие понятия, как гласность, правопорядок, что оказалось созвучно новому поколению отечественной бюрократии. Более того, Переселенческое управление МВД (1896 г.), служащими которого являлись А. А. Татищев и В. Ф. Романов, в исследуемый период реализовывало широкий спектр актуальных задач имперского характера. Эскалация массовых крестьянских миграций за Урал не только ставила власти России в условия острой необходимости урегулирования аграрного вопроса в центре и на периферии, но и реанимировала в общественно-политическом дискурсе тему «внутренних окраин» / колоний Российской империи. По сути дела, придание Переселенческому управлению статуса специального ведомства под эгидой Министерства внутренних дел подчеркивало особое положение и назначение данного учреждения в сфере решения колонизационных задач, что, в свою очередь, требовало разработки принципиально новых подходов в подборе и организации квалифицированных кадров. Следует добавить, что и сами чиновники, мобилизованные для работы в Переселенческом управлении, осознавали значимость своего положения и миссии, возложенной на них. В. Ф. Романов в своих воспоминаниях о времени службы в ведомстве в 1906– 1914 гг., когда Переселенческое управление по формату своей деятельности приблизилось к общеевропейской модели Министерства колоний, писал, оценивая традицию «переселенческого дела»: «Когда я пытаюсь объяснить себе, почему наше правительство там упорно придерживалось каких-то кустарных приемов в отношении богатейших колоний России, я думаю, что и правительство, и наше общество находились всегда под гипнозом целостно- сти территории Российской Империи; было странно признавать колонией те части ее, которые соединены со столицами сплошным железнодорожным путем, а не отделены от метрополии морями, подобно английским, германским и французским колониям» (Романов, 2012, с. 143). А. А. Татищев на заре своей служебной карьеры в учреждении (1906 г.) отмечал «широту и разнообразие деятельности Переселенческого управления» (Татищев, 2001, с. 37).
Опираясь на мемуарно-автобиографический дискурс чиновников переселенческого ведомства, можно с уверенностью констатировать существовавшую в сообществе ориентацию на взаимопонимание независимо от расположения участников коммуникации в системе координат служебной иерархии. Воспоминания А. А. Татищева и В. Ф. Романова в части коммеморации служебных отношений воссоздают широкую палитру позитивных образов коллег-чиновников, долгие годы входивших в их жизненное пространство как в формальной, так и в неформальной обстановке.
В. Ф. Романов, отмечая особый формат «пролонгированной» коммуникации, писал о своем непосредственном начальнике: «Бывало на службе произойдет злобная перепалка, выслушаешь и наговоришь много колкостей, а вечером дома слушаешь пение Глинки и всё забывается» (Романов, 2012, с. 150). Характеризуя постоянных участников коммуникативных действий профессионального свойства – И. И. Тхоржевского, Г. Ф. Чиркина, С. П. Шликеви-ча и др., Романов неизменно подчеркивает, что «отличительной чертой большинства их была горячая любовь к родине и порученному им делу и абсолютная деловая честность» (Романов, 2012, с. 154).
Общая идентичность, пребывание «на одной волне» и ориентация на взаимопонимание независимо от чинов и званий весьма своеобразно проявлялись в экспедиционной повседневности переселенческих чиновников. В. Ф. Романов в необыкновенно ярком юмористическом стиле описал в своих мемуарах отношения с Б. Е. Иваницким – тайным советником и товарищем главноуправляющего землеустройством и земледелием, командированным в 1908 г. в Приамурский край для правильной постановки переселенческого дела. В. Ф. Романов, входивший в отряд, вспоминал, что регулярно подвергался мелочным, как ему казалось, нападкам со стороны своего руководителя. И только спустя многие годы осознал, что нравоучения начальника носили исключительно педагогический и в значительной мере практический характер. Постоянные замечания о необходимости носить теплую одежду и обувь, не тратить попусту прогонные деньги и брюзжания: «хороши современные чиновники; товарищ министра должен заниматься поисками их калош!» (Романов, 2012, с. 164), были продиктованы соображениями отеческой заботы (Иваницкий был старше почти на 20 лет. – М. Ч. ) и производственной необходимости.
Реконструируя пространство профессиональной коммуникации, А. А. Татищев особое внимание уделил непредметной обстановке, сопровождавшей начало его служебной карьеры. При этом репрезентации автором мемуаров чиновничьей повседневности конструируют живой человеческий образ окружающих его персонажей, зачастую игнорируемый в тематических исследованиях. Характерно, например, что в описании топографических характеристик ведомства, первого контакта с его служащими, модели общения начальников с подчиненными Татищев делает акцент на обыденности и «легкости» восприятия коммуникативной ситуации, в которой оказался тогда еще совсем молодой человек: «Переселенческое управление помещалось тогда на Морской, 36, в небольшой квартире частного дома…»; «Встретили меня очень ласково»; «Глинка должен был ехать в большую служебную поездку в Сибирь. В такие поездки начальники… брали с собой кого-либо из младших служащих»; «…Глинке пришла в голову счастливая для меня мысль взять с собой в путешествие меня» (Татищев, 2001, с. 34). В дальнейшем, описывая акт путешествия из Петербурга в Сибирь и Степной край, А. А. Татищев сознательно выделяет сюжеты профанного характера, усиливающие эффект позитивного восприятия своей коммуникативной среды, что позволяет существенно скорректировать представления об облике, стиле жизни и поведенческих практиках российского чиновничества. Конструируя образ своего непосредственного начальника и попутчика в служебной командировке, Татищев особо подчеркивает «нормальное» в его манере и стиле поведения, что позволяет зафиксировать чиновника-человека, а не чиновника-функцию: «…перед поездкой Глинка собирался заехать в свое смоленское имение…; «Глинку я застал в мрачном настроении» (Татищев, 2001, с. 35). Большое значение в моделировании позитивного образа чиновника у А. А. Татищева имеет воссоздаваемый им повседневный фон путешествия: описание «сибирского» поезда, фиксация скорости движения, станций с переселенческими пунктами, природного колорита местности, вокзальной торговли и стоимости товаров и т. д. (Татищев, 2001, с. 35). Заданный мемуаристом контекст повседневности путешествия позволил автору вписать в эту неформальную атмосферу и своего патрона – крупного правительственного чиновника Г. В. Глинку, с которым А. А. Татищев «успел забежать на переселенческий пункт и познакомиться с заведующей, типичной представительницей старого переселенческого чиновничества, идеалиста-народника, работающего не считая часов за скудное вознаграждение и не мечтающего ни о какой карьере» (Татищев, 2001, с. 35); «ехали… в маленьком вагоне, но товарно-пассажирским поездом вместе с переселенцами, с которыми Глинка и провел всё время в дороге, переходя на станциях из вагона в вагон» (Татищев, 2001, с. 36).
В качестве общих выводов отметим следующее. В конце XIX – начале XX в. в России активными темпами формируется профессиональное сообщество переселенческих чиновников, социокультурная идентичность представителей которого строилась под воздействием комплекса факторов социализации: традиционной дворянской модели воспитания и образования, с одной стороны, и влияния либерально-народнических инноваций эпохи Великих реформ, с другой.
Культурно-историческим фоном организации коммуникативного пространства переселенческих чиновников было качественное переосмысление задач «переселенческого дела», ставшего важным сегментом имперской политики колонизации восточных окраин страны. Признание властью необходимости решения аграрного вопроса придало переселенческому движению статус первоочередного во внутренней политике России. В данном аспекте изменилась и значимость того сегмента чиновничества, который оказался вовлечен в решение задач, связанных с организацией и регулированием переселенческого процесса. Показательно, что, в отличие от чиновников классического стационарного типа, сотрудники переселенческого ведомства характеризовались большей мобильностью и интенсивностью контактов с различными сословными категориями населения империи, прежде всего с крестьянством. Именно коммуникация с крестьянством, «наградившим» рассматриваемую категорию чиновников эпитетом «переселенные», во многом определила их идентичность как специфическую, отличную от идентичности других групп российской бюрократии.
В рамках пространства служебного и неформального взаимодействия переселенческих чиновников в основе коммуникативного действия располагались принципы патернализма и товарищества, что способствовало «мягкой» профессиональной адаптации молодых служащих ведомства, коллективному принятию конвенций взаимопонимания, сотрудничества и поддержания комфортных условий деятельности и во многом повышало эффективность действий империи на колонизуемых окраинах.
Список литературы «Найти своих и успокоиться…»: коммуникативное пространство российских переселенческих чиновников как фактор профессиональной адаптации (конец XIX – начало XX века)
- Богданов В. П. «Крапивенное семя»: чиновничество и российская саморефлексия // Диалог со временем. 2011. Вып. 37. С. 101–125.
- Иванов В. А. Губернское чиновничество 50–60-х гг. XIX в. в России: Историко-источниковедческие очерки. Калуга: КГПИ, 1994. 229 с.
- Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1997. 686 с.
- Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX в.: В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский, М. С. Корсаков. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. 422 с.
- Морякова О. В. Провинциальное чиновничество в России второй четверти XIX века: социальный портрет, быт и нравы // Вестник МГУ. Серия: История. 1993. № 6. С. 11–23.
- Родигина Н. Н. Переселенческие чиновники о крестьянских миграциях в Сибирь во второй половине XIX в. // Жить законом: правовое и правоведческое пространство истории. Новосибирск, 2003. С. 88–104.
- Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. 429 с.
- Суворова Н. Г. Личные дела имперских и советских колонизационных экспертов (конец XIX – первая треть XX в.): информационные возможности // Омские научные чтения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2017. С. 205–208.
- Теннис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002. 452 с.
- Фролова Т. А. Социокультурный облик чиновничества Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006. 25 с.
- Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. 377 c.
- Романов В. Ф. Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции, 1874–1920 гг. СПб.: Нестор-История, 2012. 336 с.
- Татищев А. А. Земли и люди. В гуще переселенческого движения (1906–1921). М.: Русский путь, 2001. 376 с.