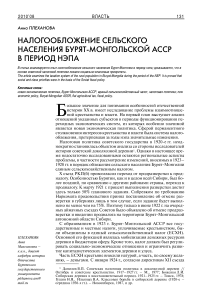Налогообложение сельского населения Бурят-Монгольской АССР в период НЭПа
Автор: Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется опыт налогообложения сельского населения Бурят-Монголии в период нэпа; доказывается, что в основе советской налоговой политики лежали социально-классовые приоритеты.
Новая экономическая политика, бурят-монгольская асср, единый сельскохозяйственный налог, налоговая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170165463
IDR: 170165463
Текст научной статьи Налогообложение сельского населения Бурят-Монгольской АССР в период НЭПа
Б ольшое значение для понимания особенностей отечественной истории XX в. имеет исследование проблемы взаимоотношений крестьянства и власти. На первый план выступает анализ отношений указанных субъектов в периоды функционирования переходных экономических систем, из которых особенно значимой является новая экономическая политика. Сферой перманентного столкновения интересов крестьянства и власти была система налогообложения, претерпевшая за годы нэпа значительные изменения.
Налоговая политика советского государства в 1920-е гг. неоднократно становилась объектом анализа со стороны исследователей истории советской доколхозной деревни1. Однако в настоящее время недостаточно исследованными остаются региональные аспекты проблемы, в частности рассмотрение изменений, вносимых в 1923– 1928 гг. в порядок обложения сельского населения Бурят-Монголии единым сельскохозяйственным налогом.
X съезд РКП(б) провозгласил переход от продразверстки к продналогу. Особенностью Бурятии, как и в целом всей Сибири, был более поздний, по сравнению с другими районами страны, переход к продналогу. К марту 1921 г. процент выполнения разверстки достиг здесь только 50% планового задания. Сибревком по требованию Наркомата продовольствия принял постановление об отмене разверстки в губерниях лишь в том случае, если задание будет выполнено не менее чем на 75%. Поэтому только в июне 1922 г. на очередных аймачных съездах Советов было объявлено об отмене продразверстки и введении продналога на территории Бурят-Монгольской автономной области Сибири.
ПЛЕХАНОВА Анна
С образованием в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР все государственные и местные налоги, уплачиваемые крестьянством, были объединены в единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Основной его функцией являлась мобилизация денежных ресурсов деревни в бюджетную сферу. Кроме того, налог должен был регулировать социально-экономические отношения и ограничить развитие капиталистических элементов деревни и улуса.
Часть ЕСХН крестьяне вносили натурой, а часть, по своему жела нию, – день гами. С января 1924 г., согласно директивам XII съезда
РКП (б), налог стал взиматься только в денежной форме.
Сельхозналог 1923/24 окладного года по Бурятии был исчислен в размере 1 683 361 руб. Принимая во внимание, что для малосостоятельной части сельского населения уплата налога в полной сумме была обременительной, была установлена минимальная сумма – твердое задание, которое должно было быть выполнено, – в размере 1 121 900 руб.
Трудности в проведении налоговой кампании возникли в связи с несоответствием шкалы обложения экономике хозяйств республики. Так, в условиях Бурятии бедное хозяйство при небольшом посеве имело 8–10 голов скота, тогда как в центральных губерниях хозяйство с 4–5 головами скота считалось уже зажиточным. Бурятское хозяйство с 8–10 головами скота являлось экономически слабым, но облагалось как зажиточное1.
В сентябре 1924 г. было опубликовано Постановление ЦИК и СНК БМАССР «О льготах по сельхозналогу для крестьянских и бурятских хозяйств», согласно которому за усовершенствование пород скота и передовые приемы его содержания, расширение посевов технических культур и введение улучшенных севооборотов, освоение новых земель и успешное землеустройство стали даваться налоговые льготы, и особенно для коллективных хозяйств.
К 15 сентября 1924 г. ЕСХН был выполнен на 104,4%2, во многом благодаря усиленному воздействию на плательщиков, особенно на зажиточную часть. Постановлением СНК БМАССР от 13 февраля 1924 г. была создана Чрезвычайная следственная комиссия по взысканию сельхозналога, которая вела следствие и разбирательство по причинам неуплаты налогов.
Твердое задание единого сельхозналога на 1924/25 г. по республике было дано в размере 1 233 706 руб.3 На 7 января 1925 г. задание было выполнено на 61,75%. Уплата налога в целом по республике проходила более или менее удовлетворительно. Невыполнение налога в отдельных районах было связано в т.ч. и с выжидательным настроением крестьян, которые говорили: «Идет борьба между сторонниками Сталина и Троцкого, посмотрим, кто победит. Если победит Троцкий, то налог с крестьянства будет снят, потому что Троцкий за крестьян, против налога»4.
Недостатки системы сельхозналога проявились и в ходе налоговой кампании 1925/26 г. В хошунные налоговые комиссии поступили десятки тысяч жалоб от налогоплательщиков. В отчетном докладе правительства «Об итогах кампании по ЕСХН за 1925/26 г.» отмечалось, что «основным недостатком в проведении сбора ЕСХН является несвоевременный учет объектов обложения, слабое рассмотрение жалоб налоговыми комиссиями, из-за чего задерживалась и уплата сельхозналога со стороны подавших заявления». Тем не менее твердое задание по сельхозналогу на 1 октября 1926 г. было выполнено на 101,7%5.
В кампанию 1926/27 г. к обложению стали привлекать доходы от кустарно-ремесленных промыслов, работы по найму и другие неземледельческие занятия крестьян. Так как эти занятия уже облагались налогом (промысловый и подоходный налоги), то в единый сельхозналог включали лишь определенный процент неземледельческих доходов, установленный в законодательном порядке, а так называемые кулаки платили с полной суммы дохода, т.е. облагались дважды.
Проведение кампании по сбору ЕСХН в 1926/27 г. выявило недочеты в самой системе налогообложения, во многом не соответствующей экономике края и условиям сельского хозяйства. Не отвечали действительности установленные центром нормы доходности от земли и скота. Такая налоговая система, а также низкие закупочные цены на сельхозпродукцию привели к тому, что крестьяне перестали продавать хлеб государству за бесценок, что стало причиной кризиса хлебозаготовок. Поэтому в 1928 г. была проведена своеобразная реформа сельхозналога. Для нее было характерно индивидуальное обложение «кулацких» хозяйств не по нормативному, а по действительному доходу; включение в сельхозналог ранее не облагавшихся объектов (свиноводство, пчеловодство); повышение норм доходности, например, по покосу – с 7 до 8 руб. на десятину, по овцам – с 1 руб. 50 коп. до 2 руб.; сокращение льгот1. Налоговые изменения 1928 г. стали средством экспроприации зажиточной части крестьянства.
Оригинальной формой в советской налоговой системе стало «самообложение». Введенный в 1927/28 г. налог вводился снизу, т.е. сами крестьяне должны были облагать себя дополнительным налогом, средства от которого шли на местные нужды. Положение о «самообложении» было составлено так, что решение могли принять 12–15% жителей деревни, имеющих право голоса. Введенный налог выполнить удавалось редко. Так, из запланированных к поступлению в порядке самообложения 252 833 руб. к концу 1927/28 г. было собрано 162 180 руб. (64%)2.
1928/29 г. стал переломным в налоговой политике в связи с установлением дополнительной надбавки к налогу на сильные хозяйства от 5 до 25%. Положение о едином сельхозналоге на 1928/29 г. определяло признаки, по которым хозяйство могло быть обложено в индивидуальном порядке. В их числе – систематическое применение наемного труда и сдача в наем сложных сельскохозяйственных машин с механическими двигателями, владение заведениями (мельницами, маслобойками, крупорушками и т.д.), занятия скупкой с целью перепродажи, торговлей, ростовщичеством, сдача в наем квартир. К числу кулацких были отнесены все хозяйства, имеющие среди своих членов служителей религиозных культов.
Недовольство крестьянства налоговым ужесточением проявлялось в утайках объектов обложения и в отказе от уплаты налога. Однако невыполнение в срок налоговых заданий влекло за собой административно-судебное преследование, основными формами которого были денежные штрафы, конфискация имущества, тюремное заключение. В 1928/29 г. в Бурятии было описано имущество 2 356 хозяйств, 163 человека были привлечены к суду и осуждены, 280 кулаков подверглись пятикратному обложению.
В регулярных информационных сводках о состоянии хлебозаготовок говорилось, что «кампания проходит вяло. На 10 нояб- ря 1929 г. в Баргузинском аймаке было выполнено 6,7 процента годового задания, в Агинском – 1 процент. Активность бедноты и середнячества отрицательная, недовольные прошлогодней заготовкой, они говорят, что, сдав хлеб, им снова придется покупать его по 6 руб., как в прошлом году. Кулачество всячески пытается избежать сдачи государству. Прячут где возможно, даже в лесу»3. Таким образом, крестьянство не желало сдавать хлеб по так называемым «твердым закупочным ценам», выгодным государству. Такое положение поставило республику перед фактом провала хлебозаготовок. В поисках выхода из хлебозаготовительного кризиса власти прибегали к жестким средствам давления на «саботирующее» крестьянство. Чрезвычайные меры фактически означали «объявление войны» крестьянству.
Опыт налогообложения периода нэпа показал взаимное недоверие власти и налогоплательщиков, особенно если последние относились к зажиточному слою. Классовая ориентация налоговой политики пагубно отразилась не только на развитии экономики, но и на социально-политическом и нравственном состоянии общества. Сложившаяся система налогообложения вела к свертыванию производства, сокращению собственных доходов крестьянства и переходу к натуральному хозяйству. Экономическая политика партии в деревне преследовала взаимоисключающие цели и не могла иметь значительного успеха: ограничение зажиточности тормозило экономический прогресс деревни, а «фаворитизация» бедноты расширяла бедность как явление политического характера.
К концу 1920-х гг. экономическая политика зашла в тупик, так как развитие индивидуального хозяйствования в условиях политического и экономического произвола по отношению к нему было невозможно. Возвращение же к новому варианту нэпа в условиях развернувшейся индустриализации также не могло произойти. Коллективизация стала, таким образом, не столько результатом заранее разработанного плана, сколько следствием общей социально-экономической ситуации в стране и в аграрном секторе в частности.