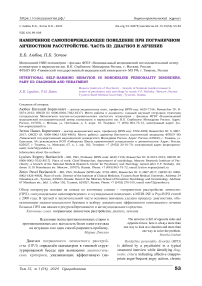Намеренное самоповреждающее поведение при пограничном личностном расстройстве. Часть III: диагноз и лечение
Автор: Любов Евгений Борисович, Зотов Павел Борисович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 1 (54) т.15, 2024 года.
Бесплатный доступ
Обзор литературы основан на поиске по ключевым словам «пограничное расстройство личности» (ПРЛ), «несуицидальное самоповреждение» и «суицидальное поведение» в MEDLINE и PsycINFO статей с 2000 года. В третьей и заключительной части основное внимание уделено процессу диагностики, объективизации медико-социального бремени и выбору доказательно эффективного комплексного лечения больных ПРЛ как важного ресурсосберегающего и антисуицидального средства.
Пограничное личностное расстройство, диагноз, лечение
Короткий адрес: https://sciup.org/140304507
IDR: 140304507 | УДК: 616.89-008 | DOI: 10.32878/suiciderus.24-15-01(54)-53-82
Текст обзорной статьи Намеренное самоповреждающее поведение при пограничном личностном расстройстве. Часть III: диагноз и лечение
Вселенная полна противоположных сторон и противоположных сил: всегда есть более одного взгляда на ситуацию и не один способ разрешить проблему.
The universe is full of opposite sides and opposite forces: here is always more than one way to look at a situation and more than one way to solve the problem.
Marsha Linehan
Borderline personality disorder (BPD) is defined by a psychiatrist in a typical structured interview while identifying diagnostic criteria indicating affective (inappropriate anger/frequent angry actions, chronic
Марша Линехан
Диагноз пограничного личностного расстройства (ПРЛ) определён психиатром в типовой структурированной беседе при выявлении диагностических критериев, указывающих аффективную (не- уместный гнев / частые гневливые действия, хроническое чувство опустошённости и нестабильность настроения), когнитивную (стрессогенные паранойя / диссоциация и нарушение идентичности), импульсивную, включая несуицидальные (нСП) и суицидальные (СП) самоповреждения; межличностную (интенсивные, нестабильные отношения и отчаянные попытки избежать одиночества) области психопатологии. Диагностические критерии включают набор неоднородных симптомов (МКБ-10, МКБ-11), но эксперты солидарны относительно основных признаков (см. Часть 2) как мишеней терапевтических воздействий.
Как и при иных психических расстройствах, патогномоничного теста ПРЛ нет. Критерии (набор симптомов) ПРЛ с импульсивным и пограничным типами указаны в МКБ-10 (F60.3). В МКБ-11 для первичного диагноза достаточны факт и степень тяжести расстройства личности (РЛ). Дименсиональ-ные модели полагают PЛ сочетанием относительно стабильных патологических личностных черт и эпизодического симптоматического поведения (декомпенсации); уместны у подростков, позволяя лучше учитывать изменчивость и неоднородность развития и регредиентности. Критерии МКБ-11 и DSM-5 подростков (≤18 лет) и взрослых – общие. Диагностика РЛ (6D10) в частично пересекающихся (часты «смешанные и неуточнённые» РЛ) доменах негативной эмоциональности, отстранённости, диссоциальности, расторможенности, ананкастности. Выделен паттерн пограничного РЛ (6D11.5).
Заинтересованная всесторонняя оценка (желательно, членами полипрофессиональной бригады) инициирует терапевтический союз с пациентом. Врач поддерживает чёткие границы, объясняя свою роль, цель и сроки оценки. Важна теплая оптимистичная позиция, особо если пациент беспокоится об обследовании и его потенциальном результате. Оценка может потребовать более одной встречи и включит тщательный анализ медицинских записей, чтобы избежать преждевременного или неточного диагноза.
Жалобы. Ключевой особенностью служит «хро-ничность». Болезненные переживания и поведение (диапазон, интенсивность и уместность) обычно с подросткового или юношеского возрастов, как большинства психических расстройств, но могут проявиться в зрелом и позднем – при сломе компенсаторных личностных механизмов (потеря поддерживающих отношений или профессиональной дея- feelings of emptiness and mood instability), cognitive (stress-related paranoia / dissociation and identity disturbance), impulsiveness, including non-suicidal self-harm (NSSI) and suicidal behavior (SB); interpersonal (intense, unstable relationships and desperate attempts to avoid loneliness) areas of psychopathology. Diagnostic criteria include a set of heterogeneous symptoms (ICD-10, ICD-11), but experts agree on the main signs (see Part 2) as targets for therapeutic interventions.
As with other mental disorders, there is no pathognomonic test for BPD. The criteria (set of symptoms) for BPD with impulsive and borderline types are specified in ICD-10 (F60.3). In ICD-11, the fact and severity of a personality disorder (PD) are sufficient for a primary diagnosis. Dimensional models consider PD to be a combination of relatively stable pathological personality traits and episodic symptomatic behavior (decompensation); are relevant in adolescents, allowing for better consideration of variability and heterogeneity in development and regredi-ency. ICD-11 and DSM-5 criteria for adolescents (≤18 years) and adults are general. Diagnosis of PD (6D10) in partially overlapping (often “mixed and unspecified” PD) domains of negative emotionality, detachment, dissociality, disinhibition, anankasty. The pattern of borderline PD (6D11.5) was identified.
An engaged, comprehensive assessment (preferably by members of a multiprofessional team) initiates a therapeutic alliance with the patient. The physician maintains clear boundaries by explaining the role, purpose, and timing of the assessment. A warm, optimistic attitude is important, especially if the patient is worried about the test and its potential outcome. The evaluation may require more than one appointment and will include a thorough review of medical records to avoid a premature or inaccurate diagnosis.
Complaints . The key feature is “chro-nicity ” . Painful experiences and behavior (range, intensity and relevance) usually begin in adolescence or youth, like most mental disorders, but can manifest themselves in adulthood and later – with the breakdown of compensatory personal mechanisms (loss of supportive relationships or professional activities).
Typical phrases of patients in all lan-
тельности).
Типовые фразы больных на всех языках схожи: «Ненавижу и обожаю его», «Я – эмоциональный инвалид, ничто», «Душа ноет…», «Мест работы сменила не перечесть». «…Дома презирают меня… я ужасная. Просыпаюсь в панике. Каким будет настроение? Как будут относиться ко мне сегодня? Они хотят что-то получить от меня? Притворяются. Никто не любит меня. Я ненавижу себя. Все предатели».
Следует установить ранжир жалоб («главная» обычно связана с обращением к профессионалу) пациента, возможно, не совпадающих с основными симптомами и полагаемыми свойством характера и /или реакцией на неблагоприятные внешние обстоятельства при острой потребности «выплеснуть» переполняющие чувства, мысли.
Оценка пациента с вниманием и интересом инициирует и поощряет терапевтический союз. Важна тёплая осторожно оптимистичная позиция, особо для обеспокоенного результатами обследования пациента. Врач изначально поддерживает чёткие границы, объясняя свою роль, сроки и цели диагностики. Оценка может потребовать несколько встреч и включает анализ медицинской документации. Для уточнения информации важны данные близких, получаемые в ходе общей (признак консолидации семьи) или индивидуальной беседе.
Телесный осмотр включает измерение пульса и кровяного давления (лёжа), индекса массы тела (показательны колебания веса ≥5% от исходного за последние месяцы в зависимости от перепадов аппетита и активности), степени физического и полового развития. Осмотр благотворен для пациента, понимающего ценность целостного медицинского подхода, способствует терапевтическому союзу. Целям диагностики служит и негативизм, нетерпение (в очереди, кабинете) обследуемого. Типичны провока-тивный макияж, особые причёски (наголо, дреды), засаленные волосы с корнями естественного цвета и яркой химической окраской в прошлом, мешковатые чёрные одежды унисекс, обилие пирсинга, колец и оберегов. Следует изучить характер, разнообразие и частоту нСП в следах свежих и давних порезов, синяков, ожогов (сигаретой), укусов и ударов головой и по голове. Отсюда множественные линейные рубцы («насечки») на предплечьях и бёдрах, паху, нарочито подчеркиваемые или скрываемые под длинными рукавами или тату (у 80% больничных пациентов против около 10% в населении) в виде девизов, символов (имеющих и антисуицидальный смысл), иероглифов, следы инъекций. Обычно больные обеззара- guages are similar: “I hate and adore him”, “I am an emotional invalid, nothing”, “My soul aches...”, “I have changed countless jobs.” “...At home they despise me... I’m terrible. I wake up in a panic. What will the mood be like? How will they treat me today? Do they want to get something from me? They pretend. Nobody loves Me. I hate myself. All people are traitors."
A ranking of patient complaints should be established (the “main” one is usually the reason for contacting a professional), perhaps not coinciding with the main symptoms and the assumed character traits and/or reaction to unfavorable external circumstances with an urgent need to “throw out” overwhelming feelings and thoughts.
Patient Assessment Initiates and encourages the therapeutic alliance with attention and interest. A warm, cautiously optimistic attitude is important, especially for a patient who is concerned about the results of the examination. The doctor initially maintains clear boundaries, explaining his role, timing and goals of the diagnosis. The assessment may require several meetings and includes a review of medical records. To clarify the information, data from loved ones obtained during a general (a sign of family consolidation) or individual conversation is important.
A physical examination includes measurement of pulse and blood pressure (lying down), body mass index (indicative weight fluctuations ≥5% of the initial value in recent months depending on changes in appetite and activity), the degree of physical and sexual development. The examination is beneficial for the patient who understands the value of a holistic medical approach and promotes a therapeutic alliance. Negativism and impatience (in line, in the office) of the subject also serve diagnostic purposes. Typical provocative makeup, special hairstyles (headless, dreadlocks), greasy hair with roots of natural color and bright chemical coloring in the past, baggy black unisex clothes, an abundance of piercings, rings and amulets. The nature, variety and frequency of NSSI in traces of recent and old cuts, bruises, burns (cigarette), bites and blows to the head and head should be studied. Hence the multiple linear scars (“notches”) on the forearms and thighs, groin, deliberately emphasized or hidden under long
живают острые предметы, раны, избегая инфекции, но при импульсивных действиях возможны следы абсцессов, инфильтраты.
Психиатрические больные – в группе риска телесных недугов. Необходим тщательный скрининг и лечение нарушений физического здоровья (психиатрический диагноз – диагноз исключения). Предстоит исключить сомато-неврологические причины симптомов (дисфункции щитовидной железы, новообразование головного мозга). ПРЛ (как и РЛ в целом) связаны с неэпилептическими припадками [1].
Дифференциальная диагностика с иными РЛ, в особенности диссоциальным, шизоидным. Важно отличить ПРЛ от психических расстройств со схожим профилем симптомов как аффективная нестабильность и импульсивность. Психиатр опирается на оценку критериев ПРЛ, но учитывает сочетанные психические расстройства (Часть 2). ПРЛ диагностируют неверно как шизофрению и биполярное аффективное расстройство (БАР) или упускают вовсе.
Эмоциональная сфера: неустойчивость от слёз до смеха видна в беседе (которую нужно вовремя прекратить / перенести).
Настроение «резко диссонансного» чудодея Э. Гофмана менялось ежечасно, в зависимости от незначительных моментов, тривиальных эпизодов, раздражающих впечатлительную натуру: от качества и количества вина, цвета неба, тембра звука или чьего-то смеха. Ведёт жизни прусского чиновника и свободного художника; любит двух женщин, замкнут и открыт, добродушен и язвителен, весел и мизантропичен, любвеобилен и равнодушен, болезнен и очень вынослив, элегантен и небрежен, пылок и холоден; филистер и представитель богемы, фантазер и рационалист. Двойственность подкрепляла версию шизофрении Гофмана. Но любим мы его не за это.
Характерны повышенная эмоциональная чувствительность, нарушения регуляции эмоциональных реакций и медленный возврат к исходному состоянию. Эту особенность можно выяснить, спросив пациента, как его эмоции меняются в течение часов или дней, особо в ответ ситуационный дистресс или спонтанно. Полезно узнать, как пациент управляет эмоциями и сожалеет ли он о своих действиях, когда его эмоции были интенсивными. Вероятно, что их поведение и реакции определяются настроением и эмоциональным состоянием. Хроническое чувство пустоты тесно связано с чувствами безнадёжности, одиночества и изоляции. Избегание участия в деятельности и отношениях, которые ранее вызывали страдания и разочарование, отказ от чувств способ- sleeves or tattoos (in 80% of hospital patients versus about 10% in the population) in the form of mottos, symbols (which also have an anti-suicidal meaning), hieroglyphs, traces of injections. Typically, patients disinfect sharp objects and wounds, avoiding infection, but with impulsive actions, traces of abscesses and infiltrates are possible.
Psychiatric patients are at risk of physical ailments. Careful screening and treatment of physical health problems is necessary (psychiatric diagnosis is a diagnosis of exclusion). It is necessary to exclude soma-to-neurological causes of symptoms (thyroid dysfunction, brain tumors). BPD (as well as PD in general) is associated with non-epileptic seizures [1].
It is necessary to run a differential diagnosis with other PD, especially dissocial and schizoid ones. It is important to distinguish BPD from mental disorders with a similar symptom profile such as affective instability and impulsivity. The psychiatrist relies on the assessment of criteria for BPD, but takes into account comorbid mental disorders (Part 2). BPD is misdiagnosed as schizophrenia and bipolar affective disorder (BD) or missed altogether.
Emotional sphere: instability from tears to laughter is visible in the conversation (which needs to be stopped/rescheduled in time). The mood of the “sharply dissonant” wizard E. Hoffmann changed hourly, depending on insignificant moments, trivial episodes that irritate an impressionable nature: on the quality and quantity of wine, the color of the sky, the timbre of a sound or someone’s laughter. Leads the lives of a Prussian official and a free artist; loves two women, closed and open, good-natured and sarcastic, cheerful and misanthropic, loving and indifferent, sick and very hardy, elegant and careless, ardent and cold; philistine and bohemian, dreamer and rationalist. Duality reinforced Hoffmann's version of schizophrenia. But that's not why we love him.
Characterized by increased emotional sensitivity, dysregulation of emotional reactions and a slow return to the original state. This feature can be explored by asking the patient how his emotions change over the course of hours or days, especially in response to situational distress or spontaneously. It is useful to learn how the patient manages emotions and whether he regrets
ствует ощущению пустоты и неудовлетворенности. Трудности контроля гнева объяснимы низкой переносимостью фрустрации и паттерном выражения гнева посредством вербальной или физической агрессии. Гнев обычно неадекватно силён, с быстрым нарастанием эмоциональной интенсивности и медленным возвратом к исходному состоянию. Половина больных подтверждают лабильность аффекта и/или гнев и агрессию [2].
Нестабильность самооценки пациента и размытость его «Я» способствуют внушаемости в ходе закрытых вопросов (дихотомия «да и нет»). При обострённой чувствительности «человека без кожи» углублённый расспрос становится травматическим зондажом. Особая деликатность с пережившими сексуальное насилие. Пациент сообщит, что эмоции резко и быстро меняются в течение часов или дней в ответ на межличностное взаимодействие или сами по себе. Предстоит узнать, как пациент управляет эмоциями и сожалеет ли о поведении (обычно больные экстрапунитивны, но депрессивные винят себя), когда эмоции «зашкаливают».
Межличностная сфера. Характерной чертой ПРЛ служит нестабильность отношений, кои выясним напрямую, спросив пациента о качестве прошлых и нынешних отношений с любовниками, родителями или значимыми членами семьи. Отношения с семьей и друзьями конфликтны между идеализацией и принижения. Неустойчивость отношений выясним открытым вопросом: «Каковы вы в отношениях, прошлых и нынешних, с любимыми, родителями или иными значимыми лицами.
Ты то ласкаешь меня, то топчешь ногами, то любишь, то ненавидишь, открываешь мне душу и делаешь из меня посмешище… «Бойцовый клуб», к/ф Германия-США, 1999
Чем ближе отношения, тем вероятнее симптоматика. Однако нарушение носит континуальный характер, и проявится в отношениях с коллегами или прохожими. Открытые вопросы, как «Каковы вы в общении?» хороши для начала беседы. После общей информации перейдём к конкретным вопросам: «В отношениях с А изменяются ли мысли и чувства полярно от любви до ненависти?», «Испытываете ли крайние чувства к себе: я – бог – я червь?». Больной может быть чрезвычайно чувствительным в отношениях, поэтому полезно спросить: «Беспокоит ли вас мнение других?», «Легко ли обижаетесь и разочаровываетесь в себе и других?». Может быть выявлена история многих интимных отношений на протяжении лет или периодов (возможное проявление повы- his actions when his emotions were intense. It is likely that their behavior and reactions are determined by their mood and emotional state. Chronic feelings of emptiness are closely related to feelings of hopelessness, loneliness and isolation. Avoidance of participation in activities and relationships that previously caused suffering and disappointment, denial of feelings, contributes to feelings of emptiness and dissatisfaction. Difficulties in controlling anger are explained by low frustration tolerance and a pattern of expressing anger through verbal or physical aggression. Anger is usually inappropriately strong, with a rapid increase in emotional intensity and a slow return to the original state. Half of the patients confirm lability of affect and/or anger and aggression [2].
The instability of the patient’s selfesteem and the vagueness of his “I” contribute to suggestibility during closed questions (the “yes and no” dichotomy). With the heightened sensitivity of the “man without skin,” in-depth questioning becomes a traumatic probing. Special sensitivity with survivors of sexual violence. The patient will report that emotions change dramatically and rapidly over a period of hours or days in response to interpersonal interactions or on their own. It is necessary to find out how the patient manages emotions and whether he regrets his behavior (usually patients are extrapunitive, but depressed people blame themselves) when emotions “go off scale.”
Interpersonal sphere. A characteristic feature of BPD is relationship instability, which can be assessed directly by asking the patient about the quality of past and current relationships with lovers, parents, or significant family members. Relationships with family and friends are conflicting between idealization and belittlement. We will find out the instability of relationships with an open question: “What are you like in your relationships, past and present, with loved ones, parents or other significant persons.
The closer the relationship, the more likely symptoms are. However, the violation is continuous in nature and will manifest itself in relationships with colleagues or passers-by. Open-ended questions like “How are you socially?” good for starting a conversation. After general information, let’s move on to specific questions: “In a relationship with A, do thoughts and feel-
шенного аффекта в рамках сопутствующего БАР), бурного развития близости с обязательными разочарованием и отчуждением.
Страх быть брошенным или отвергнутым в отношениях, по поводу разлуки и утраты может повлечь нСП и СП в попытке восстановить отношения.
АА при очередном переезде мужа к маме звонила ему с петлёй на шее под крюком люстры, вымогая возвращение. Заслышав родные шаги по длинному коридору коммунальной квартиры, отчаянно прыгала со стола. Спасённая и полузадушенная, добивалась немедленного совокупления на полу в знак примирения на век. Лишь однажды ошиблась, приняв приход соседа – за мужнин ( из клинической коллекции Е.Б .).
Больные могут заранее прекратить связь, которая, по их мнению, неизбежно приведут к потере, избегая болезненного опыта отвержения.
Межличностные конфликты (как следствие, неустойчивое трудоустройство, материальный упадок, усугубляемый рискованным поведением) представляют центральный элемент пограничного функционирования (Часть 2). Следует выявить хотя бы один эмоционально поддерживающий регулярный, тесный контакт без жестокого обращения или пренебрежения.
Поведенческая сфера. Историю импульсивности изучают вопросами: «Ищете ли новизну ощущений в рискованном опыте?», «Планируете и оцениваете ли последствия поступков и на какое время?». Затем: «Были ли проблемы с перееданием, бессмысленным транжирством, злоупотреблением ПАВ, азартными играми, безрассудным вождением и сексуальной распущенностью, «приступами» словесной или физической агрессии» и какова оценка случившегося (сожаление, стыд, стремление повтора в попытке справиться с эмоциональными переживаниями).
Суицидологический анамнез: нСП увеличивает риск СП за счёт снижения порога страха смерти и приобретённого опыта. нСП и СП легче обнаружить бдительным близким, школьной медсестре, чем подлежащие клинические нарушения. Попытки суицида – сильнейший фактор рецидива СП. Клиницисты и близкие больного заблуждаются, полагая, что повторное СП означает «несерьёзность» настроя умереть (Часть 2). Госпитализации в анамнезе указывают тяжесть СП и его последствий. Ретроспективный анализ нСП и СП осложнен двойственной позицией пациента.
Желание умереть, характерное для пациентов с ПРЛ, ings change polarly from love to hate?”, “Do you experience extreme feelings towards yourself: I am a god – I am a worm?” The patient may be extremely sensitive in relationships, so it is useful to ask: “Are you bothered by the opinions of others?”, “Are you easily offended and disappointed in yourself and others?” A history of many intimate relationships over the course of years or periods may be revealed (a possible manifestation of increased affect as part of the accompanying bipolar disorder), the rapid development of intimacy with the obligatory disappointment and alienation.
Fear of abandonment or rejection in a relationship, about separation and loss may drive NSSI and SB to try to repair the relationship.
AA, the next time her husband moved to his mother, called him with a noose around his neck under the hook of the chandelier, extorting his return. Hearing familiar steps along the long corridor of the communal apartment, she desperately jumped off the table. Rescued and half-strangled, she sought immediate copulation on the floor as a sign of reconciliation for the ages. Only once did I make a mistake, mistaking a neighbor’s arrival for my husband ( from the clinical collection of E.B. ).
Patients can proactively end a relationship that they believe will inevitably lead to loss, avoiding the painful experience of rejection.
Interpersonal conflicts (resulting in precarious employment, material decline, aggravated by risky behavior) represent a central element of borderline functioning (Part 2). At least one emotionally supportive, regular, close contact without abuse or neglect should be identified.
Behavioral area. The history of impul-sivity is studied with the questions: “Are you looking for novelty of sensations in a risky experience?”, “Do you plan and evaluate the consequences of actions and for how long?” Then: “Have there been problems with overeating, mindless spending, substance abuse, gambling, reckless driving and sexual promiscuity, “attacks” of verbal or physical aggression” and what is the assessment of what happened (regret, shame, desire to repeat in an attempt to cope with emotional experiences).
Suicidological history: NSSI increases
вполне поддаётся рациональному объяснению, поскольку та жизнь, которой они живут, зачастую невыносима. Завьялова Дарья « Мы живем на Сатурне: Как помочь человеку с пограничным расстройством личности» (2023)
Выявление ПРЛ позволяет прогнозировать СП и его рецидивы независимо от сопутствующих психиатрических расстройств и в сочетании (например, с ДР), демографических и клинических переменных в клинических и неклинических выборках (Часть 2). Уникальный аспект ПРЛ – хронические суицидальные мысли . Склонные к СП в эпизоде ДР обычно расстаются с ними в ремиссии. Напротив, больные ПРЛ «привычно» думают о самоубийстве месяцами-годами, ремиссия созревает медленнее. Риск СП носит хронический (месяцы-годы) характер, отличный от такового в остром ДР.
Когнитивная сфера. Нарушение идентичности в ощущении неуверенности или нестабильности своего Я в трудностях достижения целей и замешательстве, что следует делать или во что верить, препятствующих развитию последовательно стабильного чувства самоидентичности. Больные легко поддаются внешнему влиянию и не ощущают чётких границ между собой и другими. Уместны вопросы «Есть ли у вас представление о том, кто вы есть и что делает «вами»?». Нарушения половой идентичности правильнее рассматривать частью общего нарушения идентичности, а не как отдельное сопутствующее заболевание [3].
Незрелые защитные механизмы, как расщепление («все хорошие» или «плохие») и проективная идентификация [4] служат источником информации о пациенте и в помощь планированию лечения. «Другие» разделены на переменчивые группы «все хорошие» или «все плохие». Проективная идентификация предполагает бессознательное отрицание аспектов себя с одновременным приписыванием этих отрицаемых аспектов другому [5].
При РЛ контрпереносные реакции по предсказуемым шаблонам полезны для понимания моделей взаимоотношений пациента со значимыми другими [6], среди коих – клиницист.
Психотические симптомы преходящи [7] . Больные сообщают о симптомах чаще при целевом вопросе как второстепенных, преходящих при дистрессе, перед засыпанием, бессоннице. В клинических выборках слуховые галлюцинации требуют (наряду с острыми бредовыми интерпретациями, формальными расстройствами мышления) дифференциальной диагностики [8].
the risk of SB by reducing the threshold of fear of death and acquired experience. NSSI and SB are easier to detect by vigilant loved ones, the school nurse, than the underlying clinical disorders. Suicide attempts are the strongest factor in the relapse of SB. Clinicians and relatives of the patient are mistaken in believing that repeated SB means that the intention to die is “frivolous” (Part 2). A history of hospitalization indicates the severity of SB and its consequences. Retrospective analysis of NSSI and SB is complicated by the patient's ambivalent position.
The desire to die, characteristic of patients with BPD, is quite amenable to rational explanation, since the life they live is often unbearable. Zavyalova Daria « We live on Saturn: How to help someone with borderline personality disorder» (2023)
Identification of BPD predicts SB and its relapse independent of and in combination with comorbid psychiatric disorders (eg, DD), demographic and clinical variables in clinical and nonclinical samples (Part 2). A unique aspect of BPD is chronic suicidal ideation . Those prone to SB during an episode of DD usually leave them in remission. On the contrary, patients with BPD “habitually” think about suicide for months or years, and remission matures more slowly. The risk of SB is chronic (months-years) in nature, different from that in acute DD.
Cognitive sphere. Identity disturbance is a feeling of self-doubt or instability, difficulty achieving goals, and confusion about what to do or believe, preventing the development of a consistently stable sense of self-identity. Patients are easily influenced by external influences and do not feel clear boundaries between themselves and others. The appropriate questions are “Do you have a sense of who you are and what makes “you”?” Gender identity disorders are more correctly considered as part of a general identity disorder, and not as a separate comorbidity [3].
Immature defense mechanisms such as splitting (“all good” or “all bad”) and projective identification [4] serve as a source of information about the patient and to aid treatment planning. “Others” are divided into fickle groups of “all good” or “all bad.” Projective identification involves the unconscious denial of aspects of oneself while simultaneously attributing these denied aspects to another [5].
Диссоциативные симптомы – стрессогенные нарушения и/или разрыв в нормальной интеграции сознания, памяти, идентичности, эмоций, восприятия, представления тела, моторного контроля и поведения (Американская психиатрическая ассоциация, 2013) клинически проявляется деперсонализацией и / или дереализацией, амнезией. Спросим, чувствовал ли пациент оторванным от мира или своего тела, ощущались ли тело или мир нереальными, есть ли воспоминания о периодах времени, необъяснимых забывчивостью. Нарушения Я и межличностного функционирования представляют континуум.
Семейная история. Этиология ПРЛ многофакторная: гипотезы фокусированы на взаимодействии со средовыми факторами (особо детских травмах), нарушающих развитие эмоциональной регуляции, идентичности и социальной когниции. Больные ПРЛ в 13 раз чаще сообщают о детских невзгодах [9].
Границей нормы и патологии в МКБ-11 служат дистресс и нарушения функционирования, в связи с чем необходима оценка уровня субъективного психологического благополучия и разных сфер жизнедеятельности (семья, учёба, работа, социализация, хобби, самообеспечение и самореализация). Функциональный диагноз укажет нарушенные и сохранные звенья как мишени целевых психосоциальных воздействий. Качество привязанности определено балансом знания, когда обращаться за помощью к конкретным лицам (фигурам привязанности) в беде и опорой на внутренние ресурсы для преодоления проблемы или кризиса [10].
Психологическая диагностика. Несколько полу-структурированных диагностических интервью позволяют надёжную и достоверную оценку ПРЛ [11]. Для детализации нСП и СП применимы особые шкалы [12].
Рекомендованы психометрические шкалы, прошедшие адаптацию и валидизацию, симптоматические опросники для скрининга, оценки тяжести состояния, выраженности симптомов (как нСП и СП) и их терапевтической динамики. В оценке потенциально суицидогенной симптоматики ПРЛ полезен русскоязычный опросник [13].
Предполагаемый и заключительный диагнозы следует обсудить с близкими при согласии пациента. Важно объяснить диагноз в ясной и понятной форме, сохраняя чувство надежды на перемены и выздоровление (Часть I) как типового исхода большинства
In PD, countertransference reactions in predictable patterns are useful for understanding the patient's relationship patterns with significant others [6], among whom is the clinician.
Psychotic symptoms are transient [7] . Patients report symptoms more often in the target question as minor, transient with distress, before falling asleep, or insomnia. In clinical samples, auditory hallucinations require (along with acute delusional interpretations and formal thought disorders) differential diagnosis [8].
Dissociative symptoms are stress-related disruptions and/or disruptions in the normal integration of consciousness, memory, identity, emotion, perception, body image, motor control, and behavior (American Psychiatric Association, 2013) clinically manifested by depersonalization and / or derealization, amnesia. We ask whether the patient felt disconnected from the world or his body, whether the body or the world felt unreal, or whether there were memories of periods of time unexplained by forgetfulness. Impairments of self and interpersonal functioning represent a continuum.
Family history. The etiology of BPD is multifactorial: hypotheses focus on interactions with environmental factors (especially childhood trauma) that disrupt the development of emotional regulation, identity, and social cognition. People with BPD are 13 times more likely to report childhood adversities [9].
The border between normal and pathological in ICD-11 is distress and dysfunction, in connection with which it is necessary to assess the level of subjective psychological well-being and various spheres of life (family, study, work, socialization, hobbies, self-sufficiency and self - realization). A functional diagnosis will indicate impaired and intact links as targets of targeted psychosocial influences.
The quality of attachment is determined by the balance of knowing when to seek help from specific individuals (attachment figures) in trouble and relying on internal resources to overcome the problem or crisis [10].
Psychological diagnostics. Several semi-structured diagnostic interviews allow for reliable and valid assessment of BPD [11]. To detail the NSSI and SB, special
пациентов. Пониманию проблем пациента и его близких способствует общий язык обсуждения симптомов. Полезны иллюстрации особенностей течения ПРЛ (исповедальная «библиотечка выздоровления»). Пациенту должна быть предоставлена возможность задавать вопросы и получать разъяснения. Диагноз пациенты и их близкие обычно воспринимают с облегчением: «Не шизофрения» и после каминг-аутов медийных персон (наряду с «биполяркой»). ПРЛ и БАР в определённых кругах становятся знаками своеобразного отличия.
Сообщение диагноза – возможность помочь пациенту принять обоснованные решения о выборе эффективных методов лечения при объяснении совокупности симптомов. Проявим осторожность с подростками из-за возможной стигматизации диагнозом и ограниченных доказательствах стабильности ПРЛ со временем [14].
Диагностическая информация все более доступна пациентам из источников, отличных от врачебных (риск киберхондрии). Важно, чтобы семья не корила себя за ПРЛ и не искала оккультные («порча») и иные причины. Однако.
Семейная отягощенность аффективными расстройствами за фасадом употребления ПАВ и импульсивного поведения свойственна ПРЛ [15].
Сексуальный риск . Больные с ± сопутствующим злоупотреблением ПАВ чаще сообщают о рискованном сексуальном поведении, венерических заболеваниях, проституции [16], нежелательной (подростковой) беременности [17], изнасилованиях [18] в сравнении с иными психическими расстройствами и/или здоровым контролем.
Зависимые дети. РЛ может отягощать отношения и взаимодействие родителей и их детей. РЛ, особо диссоциальные и ЭрЛ, повышают риск жестокого обращения с детьми. Однако результаты не значимы при возможной систематической ошибке публикации с опорой на относительно немногочисленные исследования с неоднородными результатами [19].
Важно выявить потребности детей, поскольку психиатрические проблемы родителей влияют на их воспитание и психическое здоровье [20].
Мать с ПРЛ отличается пониженной чувствительностью и повышенной навязчивостью в отношении к младенцу. Ей труднее структурировать деятельность ребёнка, а в их семейном окружении выше уровень дезорганизации и враждебности при малой сплочённости. Матери сообщали, что чув- scales are used [12].
Psychometric scales that have been adapted and validated, symptomatic questionnaires for screening, assessing the severity of the condition, the severity of symptoms (both NSSI and SB) and their therapeutic dynamics are recommended. A Russian-language questionnaire is useful in assessing potentially suicidal symptoms of BPD [13].
The expected and final diagnoses should be discussed with loved ones with the patient’s consent. It is important to explain the diagnosis in a clear and understandable manner, while maintaining a sense of hope for change and recovery (Part I) as the typical outcome for most patients. Understanding the problems of the patient and his loved ones is facilitated by a common language when discussing symptoms. Illustrations of the characteristics of the course of BPD (the confessional “library of recovery”) are useful. The patient should be given the opportunity to ask questions and receive clarification. Patients and their loved ones usually perceive the diagnosis with relief: “Not schizophrenia” even after media figures come out (along with “bipolar”). BPD and BAD in certain circles become signs of a unique distinction.
Communicating a diagnosis is an opportunity to help the patient make informed decisions about effective treatment options while explaining the constellation of symptoms. Caution should be exercised with adolescents due to the potential stigma of the diagnosis and limited evidence of the stability of BPD over time [14].
Diagnostic information is increasingly available to patients from sources other than physicians (risk of cyberchondria). It is important that the family does not reproach itself for BPD and does not look for occult (“damage”) or other reasons. However.
A family history of affective disorders behind the façade of substance use and impulsive behavior is characteristic of BPD [15].
Sexual risk . Patients with concomitant substance abuse are more likely to report risky sexual behavior, sexually transmitted diseases, prostitution [16], unwanted (teenage) pregnancy [17], rape [18] compared with other mental disorders and/or healthy controls.
Dependent children. PD can burden
ствуют себя менее компетентными и удовлетворёнными родительской ролью, и, в свою очередь, дети воспринимали взаимодействие с матерью как неудовлетворительное. Дети испытывали проблемы понимания эмоций, общения, негативный стиль атрибуции и самокритики. У них повышен уровень депрессии, риск нСП и СП и иных поведенческих проблем.
Судебно-медицинский анамнез. Диагноз РЛ связан с повышенным риском насилия по сравнению с населением в целом. При ПРЛ экстернализованная агрессия может привести к насилию со стороны интимного партнёра и различным типам агрессивного преступного поведения [21]. У правонарушителей с РЛ в 2-3 раза выше риск стать рецидивистами, чем правонарушители с психическими или не психическими расстройствами [22] и выяснение правонарушений составляет часть стандартного анамнеза ПРЛ.
Бремя ПРЛ существенно (Часть I). ПРЛ – относительно распространённое (≈ 2% в общем населении, 10% психиатрических амбулаторных и 20% больничных пациентов) психическое расстройство с манифестацией первазивным паттерном неустойчивых межличностных отношений и своего Я, импульсивным поведением, эпизодами нСП и СП с хроническим риском их рецидивов
Медицинские издержки. При ПРЛ чаще, тяжелее и разнообразнее методы СП и нСП по сравнению с совершающими нСП без ПРЛ (Часть II). Физический ущерб требует медицинской помощи (Часть I). Психические расстройства связаны с нездоровым образом жизни, социальным неблагополучием, трудностями доступа к медицинской помощи и нежелательными физическими эффектами психотропных препаратов (ПАВ), а больные РЛ испытывают трудности с получением адекватного медицинского обслуживания при больших (эластичных по мере выздоровления) неудовлетворённые потребности в лечении [23] и восстановлении.
Больные РЛ подвергаются более высокому риску ухудшения физического здоровья. Диагноз связан с увеличением смертности от всех причин [24]. При ПРЛ скорее правилом служит психиатрическая и медицинская сочетанность, включая расстройства, связанные с употреблением ПАВ, СП и нСП (Части I, II). Неэффективное использование медицинских служб и неправильное оказание помощи в отделениях неотложной помощи приводит к феномену «вращающихся дверей», неудовлетворительным the relationships and interactions of parents and their children. PD, especially dissocial and PD, increase the risk of child abuse. However, the results are not significant with possible publication bias based on relatively few studies with heterogeneous results [19].
It is important to identify children's needs as parental psychiatric problems affect their parenting and mental health [20].
A mother with BPD is characterized by reduced sensitivity and increased intrusiveness in relation to the baby. It is more difficult for her to structure the child’s activities, and in their family environment there is a higher level of disorganization and hostility with little cohesion. Mothers reported feeling less competent and satisfied with their parenting role, and in turn, children perceived interactions with their mother as unsatisfactory. Children experienced problems understanding emotions, communication, a negative attribution style and selfcriticism. They have an increased level of depression, the risk of NSSI and SB and other behavioral problems.
Forensic medical history. A diagnosis of PD is associated with an increased risk of violence compared to the general population. In BPD, externalized aggression can lead to intimate partner violence and various types of aggressive criminal behavior [212]. Offenders with PD have a 2–3 times higher risk of recidivism than offenders with mental or non-mental disorders [22] and ascertaining delinquency forms part of the standard history of BPD.
Burden of BPD is essential (Part I). BPD is a relatively common (≈ 2% of the general population, 10% of psychiatric outpatients and 20% of hospital patients) mental disorder manifested by a pervasive pattern of unstable interpersonal relationships and the self, impulsive behavior, episodes of NSSI and SB with a chronic risk of relapse.
Medical expenses. In people with BPD, the methods of SB and NSSI are more frequent, more severe, and more varied than those who commit NSSI without BPD (Part II). Physical harm requires medical attention (Part I). Mental disorders are associated with unhealthy lifestyles, social disadvantage, difficulties accessing medical care and unwanted physical effects of psychotropic drugs (PSDs), and patients with PD experience difficulties in obtaining adequate medi-
результатам лечения или прекращению его, что влияет на пациентов и осуществляющих уход за ними, врачей.
Больные становятся пациентами неотложной психиатрической и первичной медико-санитарной помощи [25], часто обращаются в медицинские службы в кризисных ситуациях. Факторы, связанные с началом кризиса, включают провоцирующее событие, вызывающее дистресс, резкое снижение мотивации и способности решать проблемы, усиление поведения, направленного на поиск помощи [26], включая регоспитализации [27].
Социальные издержки . Гранями «болезни» в МКБ-11 служат дистресс и нарушения функционирования, в связи с чем уместна оценка уровня субъективного психологического благополучия пациента в разных сферах жизнедеятельности (семья, учёба, работа, социализация, хобби, самообеспечение и самореализация). Функциональный диагноз укажет мишени целевых психосоциальных воздействий. Больные испытывают профессиональные и социальные трудности [25], в большей мере, чем при иных РЛ и депрессивном расстройстве (ДР). Симптомы ПРЛ снижают общее функционирование и благополучие больного и его близких [28]. Так, импульсивность и аффективная нестабильность предсказывают низкие академические достижения [29]. Уточнение образовательного уровня пациента и его профессионального маршрута выявит неустойчивое трудоустройство, возможно, профессиональное снижение. Бремя суицида может быть определено потерей лет продуктивной жизни, особо значимой у молодых. Социальные нарушения (Часть I) сохранены на фоне симптоматической регредиеннтности и важны в прогнозе СП (Часть II), подчёркивая актуальность ранних реабилитационных мероприятий для человека и общества.
Неуловимые потери в связи с психологическим дистрессом пациентов и их окружения [28 , 30]. Повторные нСП и СП становятся источником напряжения больного, близких и медперсонала. Малая доступность кризисной помощи усугубляет страдания больных и их близких. Формальное сообщение диагноза может вызвать у пациента и его (её) близких пессимизм и стыд уничижительной «метки» [31]. Масштабы бремени указывают необходимость эффективных (потенциально ресурсосберегающих) мер управления кризисами [14].
Контроль нСП и СП – важнейшая утилитарная цель лечения ПРЛ при отсутствии панацеи личност- cal care with large (elastic with recovery) unmet treatment needs [23] and recovery.
Patients with PD are at higher risk of deteriorating physical health. The diagnosis is associated with increased all-cause mortality [24]. In BPD, the rule is rather a psychiatric and medical combination, including disorders associated with the use of psychoactive substances, substance abuse and nonsubstance use (Parts I, II). Poor utilization of health care services and poor delivery of care in emergency departments leads to the revolving door phenomenon, poor treatment outcomes, or treatment discontinuation, which impacts patients, caregivers, and physicians.
Patients become emergency psychiatric and primary care patients [25], often contacting health services in crisis situations. Factors associated with the onset of a crisis include a precipitating event causing distress, a sharp decline in motivation and problem-solving ability, and an increase in help-seeking behavior [ 26 ], including rehospitalizations [ 27 ].
Social costs . The facets of “disease” in ICD-11 are distress and dysfunction, in connection with which it is appropriate to assess the level of subjective psychological well-being of the patient in different areas of life (family, study, work, socialization, hobbies, self-sufficiency and self - realization). A functional diagnosis will indicate targets for targeted psychosocial interventions. Patients experience professional and social difficulties [25], to a greater extent than in other PDs and depressive disorder (DD). Symptoms of BPD reduce the overall functioning and well-being of the patient and their loved ones [28]. Thus, impulsivity and affective instability predict low academic achievements [29]. Clarification of the patient's educational level and his professional route will reveal unstable employment, possibly professional decline. The burden of suicide can be determined by the loss of years of productive life, which is especially significant in young people. Social disorders (Part I) are preserved against the background of symptomatic regression and are important in the prognosis of SB (Part II), emphasizing the relevance of early rehabilitation measures for the individual and society.
Subtle losses due to psychological distress of patients and their environment [ 28,
но-социального восстановления. Следует информировать пациентов и их близких о благоприятных клинических исходах ПРЛ и путях (ресурсах) их достижения. Динамический баланс суицидогенных и защитных факторов определяет индивидуальный риск СП, кризисная терапия направлена на контроль (дезактуализацию) потенциально обратимых суицидогенных и усиление защитных факторов при привлечении и стимуляции внутренних и внешних ресурсов восстановления. Комплексная помощь осуществима силами полипрофессиональной бригады (бригадой настойчивого лечения). Суицидогенные симптомы ПРЛ служат общими мишенями вмешательства. Скорое (пациент нетерпелив) облегчение наиболее мучительных переживаний (тревога, бессонница) – залог привязанности к лечению. Выявление сосуществующих соматических и психиатрических расстройств важно для действенного антисуи-цидального лечения. Основное внимание направлено на рациональное разрешение стрессогенных ситуаций с поддержанием смысла жизни. При успехе кризисного лечения риск рецидивов нСП и СП означает необходимость преемственного длительного лечения.
Психотерапия – лечение первого выбора ПРЛ, исходя из систематических обзоров [32, 33], клинических рекомендаций [14, 34] и экспертного согласованного мнения [35]
Терапия направлена на регуляцию эмоций; реорганизацию и реконцептуализацию деструктивных способов мышления; формирование и закрепление навыков адаптивного совладания с дистрессом; распознавание предупреждающих знаков нСП и СП с планированием кризисной помощи. При возможности психологического лечения клиницисту следует принимать во внимание предпочтения пациента и его право выбора тяжесть и степень нарушения, готовность участия в терапии и его мотивацию к изменениям, способность оставаться в границах терапевтических взаимоотношений, доступность личной и профессиональной поддержки, содействие пациента в формировании запроса, понимание своей роли в достижении желаемых результатов. Необходимо придерживаться согласованного психотерапевтического контракта, включающего оговоренные способы преодоления ситуаций, связанных с суицидальным кризисом.
Возможны плановые госпитализации для психотерапии. Долгосрочные программы дневных стационаров обеспечивают реабилитацию в специализиро-
30]. Repeated accidents and incidents become a source of stress for the patient, loved ones and medical staff. Low availability of crisis assistance exacerbates the suffering of patients and their loved ones. Formal communication of the diagnosis can cause pessimism and shame of the derogatory “label” in the patient and his (her) loved ones [31]. The scale of the burden indicates the need for effective (potentially resourcesaving) crisis management measures [14].
Control of NSSI and SB is the most important utilitarian goal of treating BPD in the absence of a panacea for personal and social recovery. Patients and their loved ones should be informed about the favorable clinical outcomes of BPD and ways (resources) to achieve them. The dynamic balance of suicidal and protective factors determines the individual risk of SB; crisis therapy is aimed at controlling (disactualiz-ing) potentially reversible suicidal factors and strengthening protective factors while attracting and stimulating internal and external recovery resources. Comprehensive care can be provided by a multiprofessional team (persistent treatment team). Suicidogenic BPD symptoms serve as common targets for intervention. Quick (the patient is impatient) relief of the most painful experiences (anxiety, insomnia) is the key to adherence to treatment. Identifying coexisting physical and psychiatric disorders is important for effective anti-suicide treatment. The main focus is on the rational resolution of stressful situations while maintaining the meaning of life. If crisis treatment is successful, the risk of relapse of NSSI and SB means the need for continuous long-term treatment.
Psychotherapy – first choice treatment for BPD based on systematic reviews [32, 33], clinical guidelines [14, 34] and expert consensus [35]
Therapy focuses on emotion regulation; reorganization and reconceptualization of destructive ways of thinking; formation and consolidation of skills of adaptive coping with distress; recognizing warning signs of NSSI and SB with crisis assistance planning. When psychological treatment is available, the clinician should take into account the patient's preferences and power of choice, the severity and extent of the disorder, the patient's willingness to participate in therapy and his motivation for change, the ability to
ванном отделении.
Cochrane обзор эффективности долгосрочных психотерапевтических методов, как диалектическая поведенческая терапия (ДПT) и терапия, основанная на ментализации (ТОМ), включает компонент управления кризисом [36]
Методы психотерапии
Первая (экстренная) психологическая помощь служит предварительным этапом кризисной психологической помощи или её формой в результате психотравмирующих событий. Строится на обеспечении объективной и субъективно воспринимаемой безопасности, формировании надежды на решение проблем при возможностях их разрешения, объединения с близкими, значимыми людьми. При отсутствии актуального суицидального риска кризисная психологическая помощь дополнена одним или несколькими (в зависимости от задач) психотерапевтическими методами с переходом к длительной и глубокой психотерапии. При суицидальном риске психотерапевт предупреждает пациента о необходимости безотлагательного обращения в психиатрическое учреждение; в случае суицидальной попытки необходим вызов скорой помощи. При опасности для здоровья, жизни пациента более директивные методы с допущением недобровольной госпитализации. Возобновление психотерапии только после взаимодействия пациента с психиатром.
Индивидуальную и групповую формы психотерапии желательно сочетать. Консультирование семьи облегчает понимание проблемы и путей ее решения. Большое внимание уделяется психообразованию по проблеме заболевания и выздоровления. Групповая работа построена с использованием рациональных методов и обращена к бессознательному психическому (с использование проективных методов). Опыт социального взаимодействия в группе, взаимная поддержка, осознание универсальности страданий (как и индивидуальности) благоприятно сказывается на самочувствии, социальном функционировании. При комплексной помощи следует соблюдать принцип преемственности и длительности в рамках бригадного полипрофессионального и межведомственного взаимодействий.
Ряд методов психотерапии узко специализированы и требуют специальной подготовки и супервизии. Каждое из направлений обладает своими преимуществами; данных, выделяющих наиболее действенную специфическую форму психотерапии, нет. Они взаимодополняемы и направлены на решение задач, remain within the boundaries of the therapeutic relationship, the availability of personal and professional support, the patient's assistance in forming a request, understanding their role in achieving the desired results. It is necessary to adhere to an agreed upon psychotherapeutic contract, which includes agreed upon ways of overcoming situations associated with a suicidal crisis.
Planned hospitalizations for psychotherapy are possible. Long-term day hospital programs provide rehabilitation in a specialized department.
A Cochrane review of the effectiveness of long-term psychotherapies such as dialectical behavior therapy (DBT) and mental-ization -based therapy (MBT) includes a crisis management component [36].
Methods psychotherapy
First (emergency) psychological assistance serves as a preliminary stage of crisis psychological assistance or its form as a result of traumatic events. It is built on ensuring objective and subjectively perceived safety, forming hope for solving problems with the possibility of resolving them, and uniting with loved ones and significant people. In the absence of an actual suicidal risk, crisis psychological assistance is supplemented by one or more (depending on the tasks) psychotherapeutic methods with a transition to long-term and deep psychotherapy. If there is a risk of suicide, the psychotherapist warns the patient about the need to immediately contact a psychiatric institution; in case of a suicide attempt, an ambulance must be called. If there is a danger to the health or life of the patient, more directive methods allow for involuntary hospitalization. Resumption of psychotherapy only after interaction between the patient and the psychiatrist.
It is advisable to combine individual and group forms of psychotherapy. Family counseling makes it easier to understand the problem and how to solve it. Much attention is paid to psychoeducation on the problem of illness and recovery. Group work is built using rational methods and is addressed to the unconscious psyche (using projective methods). The experience of social interaction in a group, mutual support, awareness of the universality of suffering (as well as individuality) has a beneficial effect on well-being and social functioning. With
вытекающих из совокупности элементов ситуации. Признаны доказательно эффективными ДПТ, ТОМ, схема-терапия (когнитивная терапия, ориентированная на схемы), или СХТ, терапия, фокусированная на переносе (ТФП), системный тренинг эмоциональной предсказуемости и решения проблем (СТЭПРП), экзистенциальный подход.
В методах с доказанной эффективностью следующие общие характеристики: 1) структурированный подход к типовым проблемам пациента (как эмоциональная нестабильность и импульсивность, неустойчивость взаимоотношений); 2) стимуляция пациентов к принятию на себя контроля за поступки; 3) помощь в установлении связи чувств и событий / действий (стать «над эмоциями», видеть себя в разных ситуациях (саморефлексия)); 4) обсуждение пациента с другими специалистами (супервизором). Ключом терапии служит научение адаптивному решению типовых жизненных проблем, провоцирующих нСП и СП.
Среди особенностей психотерапии сохранение и поддержание границ пациента и психотерапевта; не реже раза в две недели осмотры психиатра; внимание отношениям в системе «врач-пациент» и обсуждение их как центрального аспекта лечения; развитие у пациента механизмов совладания с импульсивностью, эмоциональной дисрегуляцией: следование трехшаговым принципам: стабилизация пациента; исследование влияния прошлого опыта на актуальное поведение; реорганизация и реконцептуализация мыслей больного и влияния поведения на его межличностные отношения.
Рекомендуемый минимум психотерапии – 18 месяцев. Частота сессий адаптирована к потребностям пациента и его «жизненному контексту», желателен вариант дважды в неделю при рутинном суицидальном мониторинге. Психотерапию, в зависимости от тяжести состояния, проводят в стационаре, дневном стационаре, амбулаторно.
ДПТ – многообещающая и изученная форма лечения ЭрЛ, получившая наибольшую эмпирическую поддержку [например, 37].
В ходе поведенческого анализа выделяют типовые проблемы, ведущие к дистрессу как триггеру нСП и СП. ДПТ, способствуя пониманию, как мысли влияют на эмоции и поведение, направлена на обучение регуляции негативных чувств (как гнева) адаптивными способами с формированием альтернативной оценки «невыносимого и безысходного» травматического опыта и социально приемлемых complex care, the principle of continuity and duration should be observed within the framework of team multiprofessional and interdepartmental interactions.
A number of psychotherapy methods are highly specialized and require special training and supervision. Each direction has its own advantages; There is no data identifying the most effective specific form of psychotherapy. They are complementary and aimed at solving problems arising from the totality of elements of the situation. DBT, MBT, schema therapy (schema-focused cognitive therapy), or SFCT, transference-focused therapy (TFT), systemic training for emotional predictability and problem solving (STEPPS), and the existential approach are recognized as evidence-based effective.
Methods with proven effectiveness have the following common characteristics: 1) a structured approach to typical patient problems (such as emotional instability and im-pulsivity, instability of relationships ); 2) stimulating patients to take control of their actions; 3) assistance in establishing connections between feelings and events / actions (to become “above emotions”, to see oneself in different situations (self-reflection )); 4) discussion of the patient with other specialists (supervisor). The key to therapy is learning to adaptively solve typical life problems that provoke NSSI and SB.
Among the features of psychotherapy are the preservation and maintenance of boundaries between the patient and the therapist; psychiatrist examinations at least once every two weeks; attention to the doctorpatient relationship and discussion of it as a central aspect of treatment; development in the patient of mechanisms for coping with impulsivity, emotional dysregulation: following three-step principles: stabilizing the patient; study of the influence of past experience on current behavior; reorganization and reconceptualization of the patient's thoughts and the impact of behavior on his interpersonal relationships.
The recommended minimum of psychotherapy is 18 months. The frequency of sessions is adapted to the needs of the patient and his “life context”, preferably twice a week for routine suicide monitoring. Psychotherapy, depending on the severity of the condition, is carried out in a hospital, day hospital, or outpatient setting.
паттернов поведения. Апробированы часовые сеансы еженедельной индивидуальной терапии в сочетании с двухчасовым групповым освоением навыков, внесессионным общением по необходимости и консультации между другими врачами пациента и его терапевтом. Возможны краткосрочные семинары и учебные занятия (1,5-3 часа). ДПТ + протокол длительного воздействия помогает при сопутствующих ПТСР, расстройствах пищевого поведения. ДПТ начинают с борьбы с опасным для жизни, затем – с мешающим (эффективной) терапии поведением. Рассматривают поведение, связанное с качеством жизни, с отношениями, жильём и другими расстройствами. Приобретённые навыки позволяют заменить негативное адаптивным поведением, чтобы достичь целей. Пациенты проходят разные стадии и используют различные методы: осознанность – жизнь в настоящем; переносимость дистрессов – принятие себя и ситуации; регулирование эмоций – приспособление к ситуации; межличностная эффективность – напористость в отношениях. ДПТ снижает количество (до 50%) попыток самоубийства, посещений (до 25%) отделений неотложной помощи, госпитализаций и увеличивает продолжительность лечения.
ТОМ поможет эффективно определять и регулировать эмоции (успокаиваться), понимать себя и других с упором на то, что человек должен сначала думать, а потом делать. Еженедельная индивидуальная терапия и групповые занятия в течение 1,5 лет. ТОМ и ДПТ применимы в дневном стационаре и / или посредством полипрофессиональной бригады.
СХТ основана на гипотезе: дезадаптивные способы мышления (познания) являются результатом опыта. Проводится индивидуально или в группе. Позволяет выявить неудовлетворённые потребности, лежащие в основе неправильных моделей поведения, приобрести понимание и навыки достижения целей приемлемыми способами. В амбулаторных условиях СХТ и ТФП показаны лицам с «лёгким» ПРЛ (меньшим количеством сочетанных расстройств, относительно высоким уровнем социального функционирования, способностью к самоуправлению).
Экзистенциальный подход (как логотерапия В. Франкла) позволяет через самодистанцирование и смыслообразование достичь целенаправленной деятельности, пониманию пользы саморегуляции с определением своего вклада в нормализацию межличностных отношений с опорой на их ценность, в том числе, через согласие с врачом. Происходит осо-
DBT is a promising and studied form of treatment for EPD, with the most empirical support [e.g., 37]
During behavioral analysis, typical problems are identified that lead to distress as a trigger for NSSI and SB. DBT, by promoting an understanding of how thoughts influence emotions and behavior, aims to teach the regulation of negative feelings (like anger) in adaptive ways, creating an alternative appraisal of the “unbearable and hopeless” traumatic experience and socially acceptable patterns of behavior. One-hour sessions of weekly individual therapy combined with two-hour group skills development, out-of-session communication as needed, and consultation between the patient's other clinicians and the patient's therapist have been tested. Short-term seminars and training sessions are possible (1.5-3 hours). DBT + long-term exposure protocol helps with concomitant PTSD and eating disorders. DBT begins with dealing with life-threatening behavior, then with behavior that interferes with (effective) therapy. Consider behaviors related to quality of life, relationships, housing, and other disorders. The acquired skills allow you to replace negative behavior with adaptive behavior in order to achieve your goals. Patients go through different stages and use different methods: mindfulness – living in the present; distress tolerance – acceptance of oneself and the situation; regulation of emotions - adaptation to the situation; interpersonal effectiveness – assertiveness in relationships. DBT reduces suicide attempts by up to 50%, emergency room visits by up to 25%, hospitalizations, and length of treatment.
MBT will help you effectively identify and regulate emotions (calm down), understand yourself and others, with an emphasis on what a person should think first and then do. Weekly individual therapy and group sessions for 1.5 years. MBT and DBT are applicable in a day hospital and/or through a multiprofessional team.
SFCT It is based on the hypothesis: maladaptive ways of thinking (cognition) are the result of experience. Conducted individually or in a group. Allows you to identify unmet needs underlying incorrect behavior patterns, acquire understanding and skills to achieve goals in acceptable ways. In outpatient settings, SFCT and TFT
знание своих сильных сторон (способностей, умений), появляется возможность целенаправленной и смыслонаполненной деятельности и жизни. Напряжение в сложной ситуации направляется на более адекватное и продуктивное ее решение.
Некоторые методы доступны врачам общей практики . Терапевты сочетают и адаптируют элементы различных подходов, проявляют их в беседе, при взаимодействии с пациентом. Привлечение близких полезно для эмоциональной поддержки и понимания, терпения и ободрения в свете опасений отвержения и пренебрежения, общих черт ПРЛ.
Поддерживающая психотерапия – атрибут любой встречи с профессионалом. Установление эмоциональных, поощряющих, благоприятных отношений с пациентом позволяет пациенту развить здоровые защитные механизмы, особенно в межличностных отношениях. Семейная терапия или групповая поддержка обычны при сочетанных злоупотреблении ПАВ или расстройствах пищевого поведения. Поддерживающая психотерапия используется для кризисного вмешательства и как основной вид помощи при завершении психотерапии.
Общее психиатрическое управление ( ОПУ) исходит из здравого смысла и вписана в общую психиатрическую практику, может проводиться без отрыва от работы или учёбы. Включает индивидуальные еженедельные занятия, психообразование с разъяснением целей лечения и ожиданий от него; групповую и семейную терапию с опорой на модель управления случаем, означающую межведомственное (бригадное) взаимодействие. Вслед раскрытию сути диагноза и обсуждению симптомов ПРЛ (как реакции на межличностные стрессоры в повседневной жизни) с пациентами и их близкими полезна информация об условиях благоприятного прогноза на основе контракта (согласия о целях) и взаимоотношений (доверия, надёжности), вовлечения в процесс лечения значимых и обученных близких, планирования безопасности. Акцент на жизнедеятельности пациента за пределами терапии. Приоритет у устойчивого трудового функционирования, а не романтических отношениях; улучшения социального функционирования, а не облегчения симптомов. Лечение способствует достижению сформулированных, гибких по мере восстановления, целей.
Структурированное клиническое управление (СКУ) отражает «наилучшие общепсихиатрические практики» при минимальном обучении клиницистов, задаёт рамки лечения, определяемые понятной и are indicated for individuals with “mild” BPD (fewer co-occurring disorders, relatively high level of social functioning, ability to self-govern).
The existential approach (like V. Frankl’s logotherapy) allows, through selfdistancing and meaning-making, to achieve purposeful activity, understanding the benefits of self-regulation with determining one’s contribution to the normalization of interpersonal relationships based on their value, including through agreement with the doctor. There is an awareness of one’s strengths (abilities, skills), and the possibility of purposeful and meaningful activity and life appears. The tension in a difficult situation is directed towards a more adequate and productive solution.
Some methods are available to general practitioners . Therapists combine and adapt elements of various approaches, demonstrating them in conversation and when interacting with the patient. Involving loved ones is helpful for emotional support and understanding, patience and encouragement in light of fears of rejection and neglect, common features of BPD.
Supportive psychotherapy is an attribute of any meeting with a professional. Establishing an emotional, encouraging, supportive relationship with the patient allows the patient to develop healthy defense mechanisms, especially in interpersonal relationships. Family therapy or group support is common for co-occurring substance abuse or eating disorders. Supportive psychotherapy is used for crisis intervention and as the main type of assistance at the end of psychotherapy.
General Psychiatric Department ( GPD) comes from common sense and is integrated into general psychiatric practice; it can be carried out without interruption from work or study. Includes individual weekly sessions, psychoeducation explaining treatment goals and expectations; group and family therapy based on a case management model, meaning interdepartmental (team) interaction. Following the disclosure of the essence of the diagnosis and discussion of BPD symptoms (as a reaction to interpersonal stressors in everyday life) with patients and their loved ones, information about the conditions for a favorable prognosis based on a contract (agreement on
предсказуемой медицинской помощи.
Самопомощь. Понятное и непротиворечивое объяснение диагноза побуждает надежду на улучшение и выздоровление; объединяет и объясняет симптомы и указывает терапевтические возможности. Личная значимость диагноза помогает принять обоснованные и ответственные решения о выборе лечения. Полезны примеры выздоровления из самоопи-саний, онлайн-ресурсы для пациентов и близких. Частью статуса пациента становится выяснение его активности на сайтах и форумах и его предпочтения в Сети (избегание сайтов с деструктивным содержанием). Членам семьи как ресурсу неформальной помощи показаны группы поддержки во главе с профессионалом и/или обученным добровольцем, по рекомендациям ВОЗ. Здесь учат распознавать источники вспышек гнева или импульсивного поведения, делиться опытом преодоления неудач. К общим рекомендациям относят соблюдение здорового образа жизни. Медитация или дыхательные практики о блегчат контроль эмоций и благотворны для физического самочувствия.
Исторически диагноз РЛ (ПРЛ) исключал людей из сферы услуг как «неизлечимых» [38].
Группы самопомощи предпочитают термин «сложные эмоциональные потребности», противодействуя терапевтическому пессимизму и стигме общественности и профессионалов [39].
Выбор условий лечения . Госпитализация показана при высоком риске СП и тяжёлых медицинских последствиях попытки . Нельзя распространять стратегии лечения острого риска СП на хронический при ПРЛ. Регоспитализации купируют кризисные состояния с сохранением «привычных» суицидальных мыслей, но способствуют выученной беспомощности с поведенческим подкреплением в виде нСП и СП. Стационарзамещающая альтернатива: дневной / кризисный стационаре при участии специалистов полипрофессиональной бригады (см. ниже). Отказ от помощи, её малая доступность (например, для сельских жителей) обосновывает помещение в круглосуточный стационар.
Острая стационарная помощь рекомендована для преодоления кризиса. Порой необходимо временное исключение из психотравмирующей домашней среды. Возможность быть выслушанным персоналом и пациентами, пауза повседневной утомительной жизни и чувство безопасности и контроля восприняты больничными пациентами положительными элементами лечения.
goals) and relationships (trust, reliability), involvement of significant others in the treatment process is useful and trained loved ones, safety planning. Emphasis on the patient's functioning outside of therapy. Prioritize stable work functioning over romantic relationships; improving social functioning rather than alleviating symptoms. Treatment contributes to the achievement of formulated goals that are flexible as recovery progresses.
Structured clinical governance (SCG) reflects “best general psychiatric practices” with minimal training for clinicians, setting a framework for treatment defined by understandable and predictable care.
Self-help. A clear and consistent explanation of the diagnosis encourages hope for improvement and recovery; integrates and explains symptoms and indicates therapeutic options. The personal significance of a diagnosis helps you make informed and responsible decisions about treatment choices. Useful examples of recovery from selfdescriptions, online resources for patients and loved ones. Part of the patient’s status is to find out his activity on sites and forums and his preferences on the Internet (avoiding sites with destructive content). Family members are shown support groups led by a professional and/or trained volunteer, as recommended by WHO, as a resource for informal assistance. Here they learn to recognize the sources of outbursts of anger or impulsive behavior, and share their experience of overcoming failures. General recommendations include maintaining a healthy lifestyle. Meditation or breathing practices w ill make it easier to control emotions and be beneficial for physical well-being.
Historically, the diagnosis of PD (BPD) excluded people from services as “incurable” [38]. Self-help groups prefer the term “complex emotional needs,” countering therapeutic pessimism and stigma among the public and professionals [39].
Selection of treatment conditions . Hospitalization is indicated if there is a high risk of SB and severe medical consequences of the attempt . Treatment strategies for acute risk of SB cannot be extended to chronic risk in BPD. Rehospitalizations relieve crisis conditions with the preservation of “habitual” suicidal thoughts, but promote learned helplessness with behavioral reinforcement in the form of NSSI and SB.
Таблица / Table 1
Риск СП и маршрутизация пациента* SB risk and patient routing*
|
Риск Risk |
Риск / защитный фактор Risk / protective factor |
Суицидальность Suicidality |
Возможное лечение Possible treatment |
|
Высокий |
Диагноз с выраженными и множественными суицидогенными симптомами (сочетание с депрессией, употреблением ПАВ) и/или острым дистрессом; защитные факторы (неформальная и профессиональная поддержка, религия, жизнестойкость) слабы. |
Потенциально смертельная попытка или постоянные мысли с сильным намерением или имитация суицида, детальное планирование, суицидальные попытки в анамнезе. |
Госпитализация. Суицидальный мониторинг. Кризисный план. |
|
High |
Diagnosis with severe and multiple suicidal symptoms (combination with depression, substance use) and/or acute distress; protective factors (informal and professional support, religion, resilience) are weak. |
Potentially fatal attempt or persistent thoughts with strong intent or imitation of suicide, detailed planning, history of suicide attempts. |
Hospitalization. Suicide monitoring. Crisis plan. |
|
Низкий |
Изменяемые факторы риска, сильные защитные факторы. |
Мысли о тщете и бессмысленности жизни, без планирования смерти, намерения или СП. |
Внебольничное лечение, облегчение симптомов, кризисный план. |
|
Low |
Modifiable risk factors, strong protective factors. |
Thoughts about the futility and meaninglessness of life, without planning for death, intention or SB. |
Community treatment, symptom relief, crisis plan. |
* Suicide Assessment Five Step Evaluation and Triage Tool (SAFE-T)
Негативные связаны с отсутствием контакта, неприязненным отношением персонала, не понимающего РЛ, принуждение к лечению и хаотическое планирование выписки [40].
Частичная госпитализация (дневной стационар) позволяет ежедневное профессиональные наблюдение и лечение в безопасной среде в условиях приближения к дому во избежание социальной изоляции. Большинству пациентов показана психотерапия в амбулаторных условиях (табл. 1).
В первые месяцы (на первой неделе!) выписки из стационара риск рецидива СП резко повышен [41].
Скорректированный коэффициент риска самоубийства в первую неделю по выписке ошеломляет: 102-кратное и 246-кратный рост у мужчин и женщин, соответственно по сравнению с никогда не госпитализированными [42], обосновывая отнесение больничных пациентов к группе риска СП и преемственность терапии.
Антисуицидальные (защитные) факторы , согласно пониманию СП как биопсихосоциального и духовного феномена, следующие. Семейные: доверительные отношения, поддержка родных, значимых взрослых и сверстников. Личностные: развитые со-
Inpatient replacement alternative: day / crisis hospital with the participation of specialists from a multiprofessional team (see below). Refusal of help and its low availability (for example, for rural residents) justify placement in a 24-hour hospital.
Acute hospital care is recommended to overcome the crisis. Sometimes temporary exclusion from a traumatic home environment is necessary. The opportunity to be listened to by staff and patients, a break from the daily tedium of life, and a sense of security and control were perceived by hospital patients as positive elements of treatment. Negative ones are associated with lack of contact, hostile attitude of staff who do not understand PD, coercion into treatment and chaotic discharge planning [40].
Partial hospitalization (day hospital) allows daily professional supervision and treatment in a safe environment close to home to avoid social isolation. Most patients are indicated for psychotherapy on an outpatient basis (Table 1).
In the first months (in the first week!) of discharge from hospital, the risk of relapse of SB is sharply increased [41].
The adjusted risk ratio for suicide in
циальные навыки, уверенность в себе, понимание своих сильных сторон; открытость и поиск неформальной и профессиональной помощи, обучение новым навыкам; религиозно-философские убеждения, осуждающие суицид. Социально-психологические отношения : включённость в общественную жизнь, устойчивые и здоровые межличностные связи. Организационные: преемственная кризисная помощь и многоуровневая профилактика. Ценности: духовные, нравственные и эстетические [43].
Смысл лечебно-реабилитационных мероприятий в группе риска СП – контроль потенциально суицидогенных факторов при выявлении и стимуляции ресурсов защитных.
Кризисные вмешательства (КВ) – неотложная реакция на острый дистресс (бедствие) – для обеспечения безопасности и восстановления; длится ≤ месяца [25, 44], в отличие от долговременного вмешательств (например, три месяца в эпизоде терапии). Обзор [45] психосоциальных вмешательств при намеренных самоповреждениях взрослых не рассматривал прицельно КВ. Пробел заполнен [46]. Рассмотрено КВ для РЛ, а не на примере трансдиагностических моделей. Приоритет КВ – контроль ауто-и агрессивного поведения [47].
Содействие немедленному доступу к услугам (здравоохранение, жилье или юридическая консультация) облегчит страдания и снизят риск импульсивного поведения за счёт решения актуальной проблемы [47]. КВ облегчит управление острым дистрессом, поможет доступу к долгосрочной психотерапии [36] .
Эффективное управление кризисом требует понимания поведения, выявления триггеров c попыткой устранения внешних факторов (суицидального) кризиса [47]. Внутренние факторы, способствующие эффективному разрешению кризиса, зависят от мотивации, восприимчивости человека. Если мотивация высока, человек способен переоценить стрессогенную ситуацию и изменить дисфункциональное поведение, решив рационально проблему. Внешние факторы включают временное удаление человека из рискованной или тревожной среды (в больницу на короткое время), но полезен ли подход в долгосрочной перспективе [48].
Кризисная (неотложная) психиатрическая помощь [39] – альтернатива госпитализации в психиатрическую больницу.
Лечение меньше трёх месяцев пациентов, срочно направленных из отделений неотложной помощи the first week of discharge is staggering: 102-fold and 246-fold increased in men and women, respectively, compared with never hospitalized patients [42], justifying the designation of hospital patients at risk for SB and continuity of care.
Anti-suicidal (protective) factors , according to the understanding of SB as a biopsychosocial and spiritual phenomenon, are as follows. Family: trusting relationships, support from relatives, significant adults and peers. Personal: developed social skills, selfconfidence, understanding of one’s strengths; openness and seeking informal and professional help, learning new skills; religious and philosophical beliefs condemning suicide. Social and psychological relationships : involvement in social life, stable and healthy interpersonal connections. Organizational: successive crisis assistance and multi-level prevention. Values: spiritual, moral and aesthetic [43]. The meaning of treatment and rehabilitation measures in the risk group for SB is the control of potentially suicidal factors while identifying and stimulating protective resources.
Crisis Interventions (CI) – an immediate response to acute distress (distress) – to promote safety and recovery; lasts ≤ a month [25, 44], as opposed to longterm interventions (eg, three months per episode of therapy). The review [45] of psychosocial interventions for intentional self-harm in adults did not specifically address CI. The gap has been filled [46]. CI for PD is considered, and not using the example of transdiagnostic models. The priority of CI is the control of auto- and aggressive behavior [47].
Promoting immediate access to services (health, housing or legal advice) will alleviate distress and reduce the risk of impulsive behavior by addressing the problem at hand [47]. CI will facilitate the management of acute distress and facilitate access to long-term psychotherapy [36] .
Effective crisis management requires understanding behavior, identifying triggers, and attempting to eliminate external factors of a (suicidal) crisis [47]. Internal factors contributing to the effective resolution of a crisis depend on the motivation and sensitivity of the person. If motivation is high, a person is able to reassess a stressful situation and change dysfunctional behavior by solving the problem rationally. External
многопрофильной больницы (медицинские последствия нСП и СП) или после обращения в психиатрическую больницу в суицидальном кризисе. КВ обеспечено бригадами стационаров и дневных отделений, ночных полустационаров – родом из СССР (см. Приложение № 8 к Приказу Минздрава от 21 марта 1988 г № 225) по месту жительства или на дому (стационар на дому – инновация советской диспансерной психиатрии 30-х гг. ХХ века), в кризисных домах / убежищах, кафе (!), отделениях матери и ребёнка, служб кризисной психосоциальной помощи.
В дневных и ночных отделениях неотложной помощи пациенты (участники программ) посещают сеансы ДПТ и КПТ в групповом и индивидуальном форматах. Приём после неотложных психиатрических обращений, КП поддержана многопрофильной бригадой от пяти дней до восьми недель. По выписке предстоят амбулаторные кризисная психотерапия (ДПТ) и психосоциальные вмешательства 1-3 месяца с упором на потерях отношений, кризисном управлении менеджменте и психотерапии. Возможно вне-больничное продолжение кризисной госпитализации сроком 1-2 дня.
Бригады отделений неотложной помощи («горячие линии») выполняют и разовую оценку (суицидального риска) с конкретными полномочиями в период острого дистресса [25]. Возможно, больные извлекут пользу при участии нескольких бригад (лечения на дому, интенсивного внебольничного ведения пациентов).
При КВ пациентам с передозировкой ПАВ, са-моповреждениями и / или последствиями импульсивности следует провести линию между нСП и СП; узнать какие события привели в отделение; подтвердить опыт и важность поддержки; обсудить лечение и его эффективность; совет о наблюдении амбулаторного психиатра, психолога или терапевтической группы; предоставить кризисные местные ресурсы, по месту работы или учёбы, варианты местной амбулаторной терапии.
Cовместные антикризисные планы. Последовательность действий при рецидиве психических расстройств [49] применима и при выработке кризисного плана предотвращения повторных нСП и СП как области общей ответственности пациента, его близких и профессионалов (бригады специалистов). План из несколько частей: выявление типового набора триггеров (как очередной разрыв «навсегда» с любовником, соответствующим по психотипу преды- factors include temporarily removing a person from a risky or distressing environment (in hospital for a short time), but is the approach beneficial in the long term [48].
Crisis (emergency) psychiatric care [39] is an alternative to hospitalization in a psychiatric hospital.
Treatment for less than three months of patients urgently referred from the emergency department of a general hospital (medical consequences of NSSI and SB) or after presentation to a psychiatric hospital in a suicidal crisis. CI is provided by teams of hospitals and day departments, night semihospitals – originally from the USSR (see Appendix № 8 to the Order of the Ministry of Health of March 21, 1988 №225) at the place of residence or at home (hospital at home – an innovation of Soviet dispensary psychiatry of the 30s 20th century, in crisis homes/shelters, cafes (!), mother and child departments, crisis psychosocial assistance services).
In day and night emergency departments, patients (program participants) attend DBT and CBT sessions in group and individual formats. Reception after emergency psychiatric visits, the CI is supported by a multidisciplinary team from five days to eight weeks. Upon discharge, 1-3 months of outpatient crisis psychotherapy (DBT) and psychosocial interventions will be required with an emphasis on relationship loss, crisis management, and psychotherapy. An out-of-hospital continuation of crisis hospitalization for a period of 1-2 days is possible.
Emergency department teams (“hotlines”) also perform one-time (suicide risk) assessments with specific responsibilities during periods of acute distress [25]. Patients may benefit from multiple teams (home care, intensive community management).
In CI, patients with substance overdose, self-harm and/or consequences of impulsivity should draw a line between NSSI and SB; find out what events led to the department; acknowledge the experience and importance of support; discuss treatment and its effectiveness; advice about seeing an outpatient psychiatrist, psychologist or therapy group; provide local crisis resources, place of work or school, local outpatient therapy options.
Joint anti-crisis plans . Sequence of actions for relapse of mental disorders [49] is also applicable when developing a crisis
дущим) и ранних проявлений (симптоматических, поведенческих) суицидального кризиса; совладаю-щие приёмы пациента (вовлечение в активность – слушание музыки, лекарства, привлечение значимых лиц); список готовых обсудить ситуацию, помочь справиться; ресурсы неотложной помощи (лечащий врач, «телефон доверия»); план переключения –отказ от установки на уход из жизни. Напротив, «договор» пациента и врача о недопущении суицида не имеет клинического и юридического смысла. Психиатр, желательно, в составе бригады, вовлекает пациентов и их близких в разработку плана актуальных (изменчивых по ходу выздоровления) реалистических жизненных целей.
Острая психиатрическая госпитализация, возможно , в специализированное отделение для подростков и молодых (18-24 лет) обычно ≤ 5-6 дней по инициативе пациента или плановая профилактическая [цит по 39] для больных РЛ.
Психотерапия и / или психосоциальная терапия или на койке краткосрочного пребывания отделения неотложной помощи или больницы общего профиля. Лечение (несколько дней) сосредоточено на решении проблем, эмоциональной дисрегуляции, внутренних и межличностных конфликтах, спровоцировавших кризис.
Неоднородность симптоматики под знаком ПРЛ затрудняет индивидуализированный лечебный подход. Выделяют aффективный, импульсивный, aгрес-сивный, зависимый и «пустой» типы ПРЛ. Среди госпитализированных в связи с СП женщин преобладают aффективный и импульсивный (суммарно 63%) типы [50].
Психотерапевтические группы в стационарных отделениях – групповое вмешательство, основанное на навыках ДПТ. Возможны повторные двухнедельные циклы сеансов до 6 недель.
Важны отношения персонала, навыки общения и качество отношений между кризисными службами. Сотрудники службы поддержки и пользователи услуг играют центральную роль в работе кризисных служб, независимо от модели помощи [51]. Скептицизм по поводу ожиданий, что человек должен улучшить количественные симптоматические показатели за короткий промежуток времени во время кризиса, надежда, что кризисные службы могут дать ощущение, что его держат и знают о командной поддержки, которая может предложить контакт и сдерживание, пока они переживают кризис и начинают выздоровление.
plan for preventing recurrent accidents and accidents as an area of shared responsibility for the patient, his relatives and professionals (team of specialists). A plan consisting of several parts: identifying a typical set of triggers (like another “forever” break with a lover who matches the previous one in psychotype) and early manifestations (symptomatic, behavioral) of a suicidal crisis; coping techniques of the patient (involvement in activities – listening to music, medications, attracting significant others); list ready-made discuss the situation, help cope with; resources urgent help (treating doctor, “helpline”); plan switching – rejecting the idea of taking their life. On the contrary, the “agreement” between the patient and the doctor to prevent suicide has no clinical and legal meaning. The psychiatrist, preferably as part of a team, involves patients and their loved ones in developing a plan for current (changeable during recovery) realistic life goals.
Acute psychiatric hospitalization, possibly in a specialized department for adolescents and young adults (18-24 years old) usually ≤ 5-6 days at the initiative of the patient, or planned preventive [cited from 39] for patients with PD.
Psychotherapy and/or psychosocial therapy or in a short-stay emergency department bed or general hospitals. Treatment (several days) focuses on problem solving, emotional dysregulation, internal and interpersonal conflicts that provoked the crisis.
The heterogeneity of symptoms associated with BPD makes an individualized treatment approach difficult. There are effective, impulsive, aggressive, dependent and “empty” types of BPD. Among women hospitalized due to SB, the effective and impulsive types (a total of 63%) predominate [50].
Psychotherapeutic groups in inpatient units – a group intervention based on DBT skills. Repeated two-week cycles of sessions up to 6 weeks are possible.
Staff attitudes, communication skills and the quality of relationships between crisis workers are important. Support workers and service users play a central role in crisis services, regardless of the model of care [51]. Skepticism about the expectation that a person should improve quantitative symptom scores in a short period of time
Психофармакотерапия полезна при контроле суицидогенных симптомов и сочетанных состояний с учетом соотношения польза-вред (дозозависимые нежелательные действия, тератогенный риск). Широкое использование психотропных препаратов отражает попытки справиться с сопутствующими СП, употреблением ПАВ, частыми у пациентов ПРЛ без строгих доказательств непосредственного антисуи-цидального эффекта. Лечение представляет клиническую проблему из-за риска намеренной или случайной передозировки и резистентности клинических симптомов [32, 35].
Нормотимики показаны при аффективной неустойчивости, импульсивной агрессии и когнитивноперцептуальных симптомах. Вальпроаты приводят к редукции раздражительности и гнева. Литий не обнаруживает клинически значимых эффектов, но показан при БАР. Эффект ламотриджина при аффективной нестабильности недостоверен. Перемена нормотимиков и их сочетание позволяют потенцировать эффект и / или снизить дозировки каждого из них. В целом эффективность стабилизаторов настроения не доказана, и их использование должно быть ограничено сопутствующим БАР [14, 34, 52].
Антидепрессанты нового поколения хорошо переносимы; риск намеренной и случайной передозировок минимален. Для коррекции аффективной неустойчивости, импульсивности следует выбирать СИОЗС с возможной сменой на антидепрессант иной структуры при неэффективности курса лечения (с контролем комплаенса) не менее 6-8 недель. В ближайшие 7-10 дней возможно облегчение тревоги и бессонницы (типовые ведущие жалобы) до антиде-прессивного действия. При отсутствии надежных подтверждающих данных, антидепрессанты назначают «по умолчанию» 75% пациентам и 95% при сочетании с ДР. Антидепрессанты и литий снижают риск самоубийства пациентов с сочетанными ДР и БАР. Эффективность антидепрессантов ограничена [53]. Возможно истощение эффекта антидепрессантов [48].
Депрессия и / или тревога – основные показания к назначению: распространенность сопутствующих депрессии и /или тревоги составляет ≥50%, часто одновременно (Часть 2). Антидепрессанты – наиболее используемый класс психотропных лекарств при ПРЛ [54].
Антипсихотики нового поколения для краткосрочного лечения в малых дозах тревоги, импульсивности, гнева, неустойчивости настроения, прехо- during a crisis, the hope that crisis services can provide a sense of being held and aware of team support that can offer contact and containment while they experience a crisis and recovery begins.
Psychopharmacotherapy useful in controlling suicidal symptoms and associated conditions, taking into account the benefitharm ratio (dose-dependent adverse effects, teratogenic risk). The widespread use of psychotropic medications reflects attempts to cope with concomitant SB and substance use, which are common in BPD patients without rigorous evidence of a direct anti-suicidal effect. Treatment poses a clinical challenge due to the risk of intentional or accidental overdose and resistance to clinical symptoms [32, 35].
Normotimics indicated for affective instability, impulsive aggression and cognitive-perceptual symptoms. Valproate leads to a reduction in irritability and anger. Lithium does not show clinically significant effects, but is indicated for bipolar disorder. The effect of lamotrigine on affective instability is unreliable. Changing mood stabilizers and their combination allows you to potentiate the effect and / or reduce the dosage of each of them. In general, the effectiveness of mood stabilizers has not been proven, and their use should be limited to concomitant bipolar disorder [14, 34, 52].
New generation antidepressants are well tolerated; the risk of intentional and accidental overdose is minimal. To correct affective instability and impulsivity, you should choose an SSRI with a possible change to an antidepressant of a different structure if the course of treatment is ineffective (with compliance monitoring) for at least 6-8 weeks. In the next 7-10 days, it is possible to relieve anxiety and insomnia (typical leading complaints) to an antidepressant effect. In the absence of reliable supporting data, antidepressants are prescribed “by default” to 75% of patients and 95% when combined with PD. Antidepressants and lithium reduce the risk of suicide in patients with combined disorder and bipolar disorder. The effectiveness of antidepressants is limited [53]. The effect of antidepressants may be exhausted [48].
Depression and/or anxiety are the main indications: the prevalence of comorbid depression and/or anxiety is ≥50%, often simultaneously (Part 2). Antidepressants are
дящих стрессогенных когнитивно - перцептуальных симптомов (параноидные мысли). Недостаточно данных о соотношении пользы-вреда. Антипсихотики назначены до 80% больничным и до 60% амбулаторным пациентам отдельно или в комбинациях с антидепрессантами и стабилизаторами настроения. Наиболее част (каждому третьему стационарному больному) кветиапин 150-300 мг/день. Кветиапин предложен для управления гневом, импульсивности и агрессии [53] и повсеместно в реальной практике – при «бессоннице». Фрагментарные доказательства использования антипсихотиков (особо первого поколения) в контроле гнева [33]. Использование нейролептиков: распространённость психотических расстройств за пять лет до постановки диагноза РЛ кластера В почти 40% [54]. Диагноз действует как катализатор назначения антипсихотических препаратов [54]. Тренд снижения назначений может быть связана с лучшим соблюдением клинических рекомендаций при отсутствии доказательств эффективности антипсихотического лечения.
Транквилизаторы . Бензодиазепины усиливают дизрегуляцию аффекта и поведенческую растормо-женность, нарушают когнитивные функции, обладают высоким потенциалом зависимости; противопоказаны в большинстве, если не во всех случаях ПРЛ. Следует учитывать риск намеренной и случайной передозировок, риск падений, переломов, делирия и когнитивной «токсичности», особенно у пожилых [55, 56].
Анксиолитики чаще используют для лечения симптомов ПРЛ, а не коморбидной тревоги. При этом пожилые (видимо, особый тип пациентов, состарившихся с болезнью) лечены анксиолитиками в наибольшей мере, по крайней мере, в Онтарио [54]. Снижение использования не компенсировано увеличением применения антидепрессантов.
Иные препараты. Импульсивность при РЛ и расстройстве, связанном с употреблением ПАВ регулируется препаратами для СДВГ . Увеличение использования препаратов связано с благоприятным соотношением риск/ польза [57].
Полифармация. Диагноз ПРЛ служит фактором риска полифармации [54], в большей степени, чем у пациентов с аффективными расстройствами, вопреки рекомендациям по наилучшей практике и руководящим принципам. Большинство (80%) пациентов ПРЛ в разных странах получают не менее одного психотропного препарата в течение года и в среднем ≈ трех [54]. Недостаточность скорого симптоматиче- the most used class of psychotropic medications for BPD [54].
Antipsychotics new generation for short-term treatment in low doses of anxiety, impulsivity, anger, mood instability, transient stressful cognitive-perceptual symptoms (paranoid thoughts). There is insufficient data on the benefit-harm ratio. Antipsychotics are prescribed to up to 80% of inpatients and up to 60% of outpatients, alone or in combination with antidepressants and mood stabilizers. The most common (every third inpatient) is quetiapine 150-300 mg/day. Quetiapine has been proposed for managing anger, impulsivity and aggression [53] and is widely used in real practice for “insomnia.” There is fragmentary evidence for the use of antipsychotics (especially first generation) in anger management [33]. Antipsychotic use: the prevalence of psychotic disorders five years before diagnosis of Cluster B PD is almost 40% [54]. The diagnosis acts as a catalyst for the prescription of antipsychotic drugs [54]. The downward trend in prescribing may be due to better adherence to clinical guidelines in the absence of evidence of the effectiveness of antipsychotic treatment.
Tranquilizers . Benzodiazepines increase affect dysregulation and behavioral disinhibition, impair cognitive functions, and have a high potential for addiction; contraindicated in most, if not all cases of BPD. The risk of intentional and accidental overdose, the risk of falls, fractures, delirium and cognitive toxicity should be considered, especially in the elderly [55, 56].
Anxiolytics are more often used to treat symptoms of BPD rather than comor-bid anxiety. However, the elderly (apparently a special type of patient who has aged with the disease) are treated with anxiolytics to the greatest extent, at least in Ontario [54]. The decrease in use has not been offset by the increase in antidepressant use.
Other drugs. Impulsivity in PD and substance use disorder is regulated by ADHD medications . Increased drug use is associated with a favorable risk/benefit ratio [57].
Polypharmacy . A diagnosis of BPD serves as a risk factor for polypharmacy [54], more so than in patients with mood disorders, contrary to best practice recommendations and guidelines. The majority (80%) of BPD patients in different countries
ского эффекта при нетерпении пациента и/или врача объясняет частоту полипрагмазии: до 4-5 препаратов разных классов по 3-4 раза в день (так, отечественные психиатры упорно назначают препараты дробно за исключением снотворных и слабительных) с высоким риском нежелательных действий вследствие недостаточности (отсутствия) психотерапии, соче-танности состояний, нерегулярности фармакоэпиде-миологического аудита. Нерациональная полипрагмазия (тем более вычурная, чем больше фармацевтический бюджет учреждения) – известный фактор несоблюдения режима лечения вкупе с удорожанием терапии, значимой для амбулаторного лечения, риска межлекарственного взаимодействия, особо у пожилых (≥ 65 лет) [58], составляющих группу муль-тиморбидности и полипрагмазии [59, 60].
Клинические рекомендации [14, 34] и систематический обзор клинических рекомендаций лечения [61] не рекомендуют фармакотерапию для ПРЛ (РЛ кластера В). Снижение использования психотропных препаратов (отрадно – транквилизаторов) возможно при комплексной последовательной помощи. Тенденции и закономерности выбора классов психотропных препаратов предполагают изменения ведения ПРЛ с опорой не на лекарственный поведенческий контроль, но восстановление пациента.
Эффективность лечения
Мишени лечения ПРЛ – кластеры потенциально суицидогенных симптомов. «Привычные» суицидальные мысли не указывают безрезультативность лечения. К умеренно действенным (уровень А доказательности) методам оказания помощи первой линии отнесены специализированные психотерапевтические подходы во внебольничных условиях. ДПТ (специально разработана, наиболее изучена) и ТОМ более снижают риск нСП и СП и госпитализаций по сравнению с обычным лечением за счет долгосрочного эмоционального контроля. ПРЛ – одно из самых «дорогих» психических расстройств с медицинской и социальной позиций. ТОМ и ДПТ показали затратную эффективность по сравнению с обычным лечением. Доказательства эффективности кризисных мероприятий затруднены в связи с относительной редкостью многофакторного СП, недостоверностью эпидемиологических данных; «перехлестом» нСП и СП; кратковременностью исследований относительно малых выборок. В результате доказательность не превышает умеренной определенности [25]. Мало доказательных данных, помимо психотерапевтических, о потенциально многообещающих результатах receive at least one psychotropic medication per year and on average ≈ three [54]. The insufficiency of a quick symptomatic effect when the patient and/or doctor is impatient explains the frequency of polypharmacy: up to 4-5 drugs of different classes 3-4 times a day (for example, domestic psychiatrists persistently prescribe drugs in fractions, with the exception of hypnotics and laxatives) with a high risk of undesirable effects due to insufficiency (absence) of psychotherapy, combination of conditions, irregularity of pharmacoepidemiological audit. Irrational polypharmacy (the more pretentious, the larger the pharmaceutical budget of the institution) is a known factor of noncompliance with the treatment regimen, coupled with the increase in the cost of therapy that is significant for outpatient treatment, the risk of drug-drug interactions, especially in the elderly (≥ 65 years) [58], who make up the group of multimorbidity and polypharmacy [59, 60].
Clinical practice guidelines [14, 34] and a systematic review of clinical treatment guidelines [61] do not recommend pharmacotherapy for BPD (Cluster B PD). Reducing the use of psychotropic drugs (pleasantly, tranquilizers) is possible with comprehensive, consistent care. Trends and patterns in the choice of classes of psychotropic drugs suggest changes in the management of BPD, relying not on drug-based behavioral control, but on patient recovery.
Treatment effectiveness
Treatment targets for BPD are clusters of potentially suicidal symptoms. “Habitual” suicidal thoughts do not indicate treatment failure. Moderately effective (level A evidence) first-line methods of care include specialized psychotherapeutic approaches in out-of-hospital settings. DBT (specially developed, most studied) and MBT more reduce the risk of NSSI and SB and hospitalizations compared to conventional treatment due to long-term emotional control. BPD is one of the most expensive mental disorders from a medical and social point of view. MBT and DBT have shown costeffectiveness compared with usual care. Evidence of the effectiveness of crisis measures is difficult due to the relative rarity of multifactorial SB and the unreliability of epidemiological data; “overlap” of NSSI and SB; the short duration of studies with relatively small samples. As a result, the
иных форм кризисной помощи (госпитализации, дневной, кризисный стационар, бригады). Однако сила доказательств пользы или вреда госпитализаций в группе ПРЛ низка. Мало информации об альтернативных вариантах кризисной помощи, возможно, лучше удовлетворяющих потребности пациентов. Нет (пока) убедительных доказательств преимуществ в аспектах симптоматического улучшения, ресурсопотребления (потребности в ресурсоемкой госпитализации), социального функционирования [39] и качества жизни пациентов [25]. Кризисная бригада интенсивного лечения на дому, служба раннего вмешательства по месту жительства, острая частичная госпитализация, краткосрочные госпитализации [39] не показали значимых преимуществ перед обычным лечением в аспектах смертности, нСП и СП [25].
Психофармакотерапия не служит основным «излечивающим» лечением (дисбаланс нейротрансмиттеров не объясняет ПРЛ). Обзоры [32, 62] и данные Cochrane библиотеки [63, 64] долгосрочных эффективности и безопасности различных классов психотропных препаратов не обнаружили существенных отличий антипсихотиков второго поколения, антидепрессантов, стабилизаторов настроения или иных лекарств (антидементный мемантин). Ни один препарат официально не одобрен для ПРЛ.
Препятствия помощи
Особенности ПРЛ как неустойчивость (эмоций, образа «Я», межличностных отношений) препятствуют мотивации (без подкрепления), осознанному следованию режиму лечения при обостренной реакции на нежелательные действия лекарств, смешиваемой с проявлением самого психического расстройства.
Национальные руководства предостерегают от «чрезмерного» использования стационарной психиатрической помощи больным РЛ (ПРЛ) [например, 14, 65], поощряющей регрессию (выученную беспомощность), изоляцию и принуждение вместо восстановления. Рекомендации отражают подход ДПТ: избегание госпитализации с целью предотвращения потери навыков преодоления трудностей [66]. Альтернатива – кратковременные стационирование и стационарзамещающие формы внебольничной помощи.
Трудности межличностных контактов осложняют групповые занятия. Показательно двойственное, пассивно агрессивное отношение к терапевту в виде опозданий, отмены, внезапных запросов и переносов evidence does not exceed moderate certainty [25]. There is little evidence, other than psychotherapy, about the potentially promising results of other forms of crisis care (hospitalization, day care, crisis hospital, teams). However, the strength of evidence for the benefits or harms of hospitalizations in the BPD group is low. There is little information about alternative crisis care options that may better meet the needs of patients. There is (yet) no convincing evidence of benefits in the areas of symptomatic improvement, resource consumption (requirement for resource-intensive hospitalization), social functioning [39] and patient quality of life [25]. Intensive care crisis team at home, early intervention service in the community, acute partial hospitalization, short-term hospitalization [39] did not show significant advantages over usual care in terms of mortality, non-amnesis and SB [25].
Psychopharmacotherapy does not serve as a primary “cure” treatment (neurotransmitter imbalances do not explain BPD). Reviews [32, 62] and Cochrane library data [63, 64] on the long-term effectiveness and safety of various classes of psychotropic drugs found no significant differences between second-generation antipsychotics, antidepressants, mood stabilizers, or other medications (anti-dementia memantine). No drug is officially approved for BPD.
Obstacles to help
Features of BPD such as instability (emotions, self-image, interpersonal relationships) interfere with motivation (without reinforcement), conscious adherence to the treatment regimen with an aggravated reaction to the undesirable effects of drugs, mixed with the manifestation of the mental disorder itself.
National guidelines warn against the “excessive” use of inpatient mental health care for people with personality disorder (BPD) [e.g., 14, 65], which encourages regression (learned helplessness), isolation, and coercion rather than recovery. The recommendations reflect the DBT approach of avoiding hospitalization to prevent loss of coping skills [66]. An alternative is shortterm hospitalization and hospital - substituting forms of out-of-hospital care.
Difficulties in interpersonal contacts complicate group activities. Indicative an ambivalent, passive aggressive attitude to-
встреч (сеансов), нетерпения к очереди, ограничениям приёма, воспринимаемыми знаками отвержения. Затрудняют суждение о динамике терапии контрастные и скорые изменения самооценки, целей и ценностей жизни. Питает терапевтический нигилизм предубеждение профессионалов ввиду стигматизирующих характеристик (отчасти имеющих основание) больных как эгоцентричных, манипулятивных, «безнадежных», назойливых. Пациент не ждёт «исследования», но желает «погружения» в его мир, сопереживание; навязывает правила общения с нарушением границ терапевтического союза вплоть до провокативного поведения при «любви-ненависти» к врачу. Не выносят однообразия и постоянства терапевтического процесса, но туго переключаемы на «неинтересные» темы, избегают осмысления ранжира значимости проблем. Интерпретации терапевта могут полагаться проявлением равнодушия, неуважения, недостатка признания. Вспышки гнева, суицидальные жесты вызывают страх, негодование и безысходность медперсонала, предпочитающего госпитализацию как безальтернативное решение сложных изменчивых клинико-социальных проблем пациента и его семьи. Государственные учреждения не предлагают полное страховое покрытие психотерапевтических услуг, в результате чего приходится платить из своего кармана.
Пациенты вызывают негативную реакцию, при этом врачи сообщают о чувстве неадекватности, тревоге и опасении из-за невозможности помочь пациенту и чувстве вины, когда пациент в бедственном положении.
Видим разрыв между научно обоснованными рекомендациями по фармакотерапии и современной клинической практикой, когда назначают психотропные препараты при отсутствии доказательств эффективности.
Перспективы исследований
Важно изучение сочетания психотерапевтических, психосоциальных реабилитационных и лекарственных подходов на медико-социальные, экономические и гуманитарным (качество жизни, удовлетворенность помощью) результаты в различных условиях лечения и на разных этапах развития и затухания ПРЛ и в отдельных ее подгруппах с позиций пациентов, профессионалов и общества в целом. Кризис необходимо решать через понимание согласованных потребностей и чаяний заинтересованных сторон (пациентов, их опекунов, профессионалов) [67, 68].
wards the therapist in the form of delays, cancellations, sudden requests and postponements of meetings (sessions), impatience with the queue, restrictions on appointments, perceived signs of rejection. Contrasting and rapid changes in selfesteem, goals and life values make it difficult to judge the dynamics of therapy. Therapeutic nihilism is fueled by the prejudice of professionals due to the stigmatizing characteristics (partly justified) of patients as self-centered, manipulative, “hopeless,” and annoying. The patient does not expect “research”, but wants “immersion” in his world, empathy; imposes rules of communication with violation of the boundaries of the therapeutic alliance, up to provocative behavior with “love-hate” towards the doctor. They cannot stand the monotony and constancy of the therapeutic process, but are difficult to switch to “uninteresting” topics and avoid understanding the ranking of the significance of problems. The therapist's interpretations may be interpreted as indifference, disrespect, or lack of recognition. Outbursts of anger and suicidal gestures cause fear, indignation and hopelessness among medical staff, who prefer hospitalization as the only alternative solution to the complex, variable clinical and social problems of the patient and his family. Government agencies do not offer full insurance coverage for psychotherapy services, resulting in out-of-pocket payments.
There is a negative reaction from patients, with doctors reporting feelings of inadequacy, anxiety and apprehension about not being able to help the patient, and feelings of guilt when the patient is in distress.
We see a gap between scientifically based recommendations for pharmacotherapy and modern clinical practice, when psychotropic drugs are prescribed in the absence of evidence of effectiveness.
Research prospects
It is important to study the combination of psychotherapeutic, psychosocial rehabilitation and medicinal approaches on medical, social, economic and humanitarian (quality of life, satisfaction with care) results in various treatment conditions and at different stages of development and attenuation of BPD and in its individual subgroups from the perspective of patients, professionals and society generally. The crisis must be addressed through an understanding of the
Будут исследованы лекарственные препараты, регулирующие влечение / поиск ощущений, импульсивность.
Гендерный аспект актуален в аспекте ПРЛ с привлечением внимания бремени семьи. Следует изучить характер, разнообразие и частоту, мотивы нСП и СП в группах ПРЛ. Качественные исследования опыта пользователей услуг ценны в разработке научно обоснованных руководств по лечению. Большинство исследований ПРЛ – поперечные, небольших выборок госпитализированных (то есть наиболее тяжёлых) и охваченных острой кризисной помощью (преобладание женщин). Более широкие исследования отразят многообразие траекторий течения ПРЛ с вниманием к условиям достижения личностно-социального восстановления (выздоровления).
Будет продолжено изучение и систематизация многообразных факторов риска нСП и СП в русле синтетического понимания и взаимопроникновению патологических процессов (антропопатологии, по Д. Плетнёву). Самоубийства – эпидемиологически редкие события, потому алгоритмы, основанные на факторах риска, менее действенны на индивидуальном уровне в сравнении с выделением групп риска. Исследования по прогнозированию СП при ПРЛ немногочисленны в отличие от суицидальных попыток с опорой на обширные базы данных электронных медицинских карт больниц [43].
ПРЛ представляют актуальную проблему общественного здравоохранения в связи с неудовлетворительными выявляемостью и качеством повседневной психиатрической помощи, обычно сводимой к госпитализации (надзору и попечению) и фармакотерапии. ПРЛ – неоднородная диагностическая концепция с хроническим риском нСП и СП как маркеров расстройства, усугубляемым частотой сочетанных психических расстройств. Время + лечение нивелируют клинико-социальные последствия ПРЛ. Регре-диентность нСП и СП ускорена биопсихосоциаль-ным лечением при контроле измененяемых суицидогенных факторов и стимуляции антисуицидальных ресурсов личности с привлечением обученных и организованных близких.
Осторожно взвешенные оптимистические данные не означают полного и скорого излечения всех больных ПРЛ, не обречённых, однако, на пожизненную ловушку эмоциональных потрясений и само-повреждающего поведения. Следует информировать об относительно благоприятных исходах ПРЛ и ре- agreed needs and aspirations of stakeholders (patients, their caregivers, professionals) [67, 68].
Medications that regulate attrac-tion/sensation seeking and impulsivity will be studied.
The gender aspect is relevant in the aspect of BPD, drawing attention to the burden of the family. The nature, variety and frequency, motives of NSSI and SB in BPD groups should be studied. Qualitative research into service user experiences is valuable in developing evidence-based treatment guidelines. Most studies of BPD are crosssectional, with small samples of hospitalized (i.e., most severely ill) and acute crisis care (predominantly female) samples. Broader research will reflect the diversity of BPD trajectories with attention to the conditions for achieving personal and social recovery (recovery).
The study and systematization of the diverse risk factors of NSSI and SB will continue in line with the synthetic understanding and interpenetration of pathological processes (anthropopathology, according to D. Pletnev). Suicides are epidemiologi-cally rare events, so algorithms based on risk factors are less effective at the individual level compared to identifying risk groups. Studies on the prediction of SB in BPD are scarce, in contrast to suicide attempts, relying on large databases of hospital electronic medical records [43].
BPD is a pressing public health problem due to the poor detection and quality of routine mental health care, usually limited to hospitalization (supervision and care) and pharmacotherapy. BPD is a heterogeneous diagnostic concept with a chronic risk of NSSI and SB as markers of the disorder, exacerbated by the frequency of comorbid mental disorders. Time + treatment neutralizes the clinical and social consequences of BPD. Regredience NSSI and SB accelerated by biopsychosocial treatment when controlling modifiable suicidogenic factors and stimulating anti-suicidal personality resources with the involvement of trained and organized loved ones.
Cautiously weighed optimistic data does not mean a complete and rapid cure for all patients with BPD, but not doomed to a lifelong trap of emotional turmoil and selfharming behavior. Patients, their loved ones, and clinicians should be informed
сурсах их улучшения пациентов, их близких, клиницистов.
about the relatively favorable outcomes of BPD and resources for improving them.
Список литературы Намеренное самоповреждающее поведение при пограничном личностном расстройстве. Часть III: диагноз и лечение
- Beghi M., Negrini P.B., Perin C., et al. Psychogenic non-epileptic seizures: so-called psychiatric co-morbidity and underlying defence mechanisms. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2015; 30: 2519-27. DOI: 10.2147/NDT.S82079
- Grilo C.M., McGlashan T.H., Morey L.C., et al. Internal consistency, intercriterion overlap and diagnostic efficien-cy of criteria sets for DSM-IV schizotypal, borderline, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders. Acta Psychiatr. Scand. 2001; 104 (4): 264-272. DOI: 10.1034/j.1600-0447.2001.00436.x
- Frías Á., Palma C., Farriols N., González L. Sexuality-related issues in borderline personality disorder: A com-prehensive review. Personal Ment Health. 2016; 10 (3): 216-231. DOI: 10.1002/pmh.1330
- Zanarini M.C., Frankenburg F.R., Fitzmaurice G. Defense mechanisms reported by patients with borderline personal-ity disorder and axis II comparison subjects over 16 years of prospective follow-up: description and prediction of re-covery. Am. J. Psychiatry. 2013; 170 (1): 111-120. DOI: 10.1176/appi.ajp.2012.12020173
- Schlapobersky J. From the Couch to the Circle: Group-Analytic Psychotherapy in Practice. Routledge, 2016. 6. Colli A., Tanzilli A., Dimaggio G., Lingiardi V. Patient personality and therapist response: an empirical investiga-tion. Am. J. Psychiatry. 2014;171(1):102-8. DOI: 10.1176/appi.ajp.2013.13020224
- Pearse L.J., Dibben C., Ziauddeen H., et al. A study of psychotic symptoms in borderline personality disorder. J. Nerv. Ment. Dis. 2014; 202 (5): 368-371. DOI: 10.1097/NMD
- Merrett Z., Rossell S.L., Castle D.J. Comparing the expe-rience of voices in borderline personality disorder with the experience of voices in a psychotic disorder: A systematic review. Aust. NZ J. Psychiatry. 2016; 50 (7): 640-648. DOI: 10.1177/0004867416632595
- Porter C., Palmier-Claus J., Branitsky A., et al. Childhood adversity and borderline personality disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr. Scand. 2020; 141 (1): 6-20. DOI: 10.1111/acps.13118
- Bowlby J. A secure base. NY: Basic Books, 1988.
- Carcone D., Tokarz V.L., Ruocco A.C. A systematic re-view on the reliability and validity of semistructured diag-nostic interviews for borderline personality disorder. Can. Psychology / Psychologie сanadienne. 2015; 56 (2): 208-226. DOI: 10.1037/cap0000026
- Суицидальные и несуицидальные самоповреждения подростков / Коллективная монография. Под редакцией проф. П.Б. Зотова. Тюмень: Вектор Бук, 2021. 472 с. ISBN 978-5-91409-537-3
- Ласовская Т.Ю., Короленко Ц.П., Сарычева Ю.В., Яичников С.В. Распространенность, диагностика и клиника пограничного расстройства личности: НГМУ. Новосибирск: ООО "Печатный дом Новосибирск", 2013. 157. ISBN 978-5-9554-0029-7
- National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Borderline personality disorder: Recognition and management, 2009. https://www.nice.org.uk/guidance/cg78
- White C.N., Gunderson J.G., Zanarini M.C., Hudson J.I. Family studies of borderline personality disorder: a re-view. Harv. Rev. Psychiatry. 2003; 11 (1): 8-19. DOI: 10.1080/10673220303937
- Harned M.S., Pantalone D.W., Ward-Ciesielski E.F., et al. The prevalence and correlates of sexual risk behaviors and sexually transmitted infections in outpatients with border-line personality disorder. J. Nerv. Ment. Dis. 2011; 199: 832-838. DOI: 10.1097/NMD.0b013e318234c02c
- De Genna N.M., Feske U., Larkby C., et al. Pregnancies, abortions, and births among women with and without bor-derline personality disorder. Women's Health Issues. 2012; 22 (4): e371-377. DOI: 10.1016/j.whi.2012.05.002
- Sansone R.A., Chu J.W., Wiederman M.W. Sexual behav-iour and borderline personality disorder among female psychiatric inpatients. Int J Psychiatry Clin Pract. 2011; 15 (1): 69-73. DOI: 10.3109/13651501.2010.507871
- Senberg A., Schmucker M., Oster A., Zumbach J. Parental personality disorder and child maltreatment: A systematic review and meta-analysis. Child Abuse Negl. 2023; 140: 106148. DOI: 10.1016/j.chiabu.2023.106148
- Petfield L., Startup H., Droscher H., et al. Parenting in mothers with borderline personality disorder and impact on child outcomes. Evid. Based Ment. Health. 2015; 18 (3): 67-75. DOI: 10.1136/eb-2015-102163
- Sansone R.A., Sansone L.A. Borderline personality and externalized aggression. Innov. Clin. Neurosci. 2012; 9 (3): 23-26. PMID: 22567607
- Yu R., Geddes J.R., Fazel S. Personality disorders, violence, and antisocial behavior: a systematic review and meta-regression analysis. J. Pers. Disord. 2012; 26 (5): 775-792. DOI: 10.1521/pedi.2012.26.5.775
- Hayward M., Slade M., Moran P.A. Personality disorders and unmet needs among psychiatric inpatients. Psychiatr. Serv. 2006; 57: 538-543. DOI: 10.1176/ps.2006.57.4.538
- Kjær J.N., Biskin R., Vestergaard C., et al. All-cause mor-tality of hospital-treated borderline personality disorder: a nationwide cohort study. J. Personal. Dis. 2020; 34 (6): 723-735. DOI: 10.1521/pedi_2018_32_403
- Monk-Cunliffe J., Borschmann R., Monk A., et al. Crisis interventions for adults with borderline personality disor-der. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 9 (9): CD009353. DOI: 10.1002/14651858.CD009353.pub3
- Sansone R.A. Chronic suicidality and borderline person-ality. J. Personal. Dis. 2004; 18 (3): 215-225. DOI: 10.1521/pedi.18.3.215.35444
- National Collaborating Centre for Mental Health. Border-line Personality Disorder: Treatment and Management. Leicester (UK): British Psychological Society, 2009. URL: www.nice.org.uk/guidance/cg78/evidence/bpd-full-guideline-242147197
- Hastrup L.H., Jennum P., Ibsen R., et al. Societal costs of borderline personality disorders: a matched-controlled na-tionwide study of patients and spouses. Acta Psychiatr. Scand. 2019; 140 (5): 458-467. DOI: 10.1111/acps.13094
- Bagge C., Nickell A., Stepp S., et al. Borderline personali-ty disorder features predict negative outcomes 2 years later. J. Abnorm. Psychol. 2004; 113 (2): 279-288. DOI: 10.1037/0021-843X.113.2.279
- Bateman A., Fonagy P. A randomized controlled trial of a mentalization-based intervention (MBT-FACTS) for fami-lies of people with borderline personality disorder. Per-sonal. Dis.: Theory, Res., Treatment. 2019; 10 (1): 70-79. DOI: 10.1037/per0000298
- Lequesne E.R., Hersh R.G. Disclosure of a diagnosis of borderline personality disorder. J. Psychiatr. Pract. 2004; 10 (3): 170-176. DOI: 10.1097/00131746-200405000-00005
- Gartlehner G., Crotty K., KennedyS., et al. Pharmacologi-cal treatments for borderline personality disorder: a sys-tematic review and meta-analysis. CNS Drugs. 2021; 35: 1053-1067. DOI: 10.1007/s40263-021-00855-4
- Stoffers-Winterling J.M., Storebø O.J., Pereira Ribeiro J., et al. Pharmacological interventions for people with bor-derline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 2022: 12956. DOI: 10.1002/14651858.CD012956
- Simonsen S., Bateman A., Bohus М., et al. European guidelines for personality disorders: past, present and fu-ture. Borderline Pers. Disord. Emot. Dysregulat. 2019; 6:9. DOI: 10.1186/s40479-019-0106-3
- Bozzatello P., Rocca P., De Rosa M.L., Bellino S. Current and emerging medications for borderline personality dis-order: is pharmacotherapy alone enough? Expert Opin. Pharmacother. 2020; 21: 47-61. DOI: 10.1080/14656566.2019.1686482
- Storebø O.J., Stoffers-Winterling J.M., Völlm B.A., et al. Psychological therapies for people with borderline person-ality disorder. Cochrane Database of Systematic Rev. 2020; 5: CD012955. DOI: 10.1002/14651858.CD012955.pub2
- Linehan M.M., Comtosis K.A., et al. Two-year ran-domized controlled trial and follow-up of dialectical be-haviour therapy vs. therapy by experts for suicidal behav-iours and borderline personality disorder. Arch. Gen. Psy-chiatry. 2006; 63 (7): 757-766. DOI: 10.1001/archpsyc.63.7.757
- Kealy D., Ogrodniczuk J.S. Marginalization of borderline personality disorder. J. Psychiatr. Pract. 2010; 16 (3): 145-154. DOI: 10.1097/01.pra.0000375710.39713.4d.
- Maconick L., Ikhtabi S., Broeckelmann E., et al. Crisis and acute mental health care for people who have been given a diagnosis of a 'personality disorder': a systematic review. BMC Psychiatry. 2023; 23 (1): 720. DOI: 10.1186/s12888-023-05119-7
- Stapleton A., Wright N. The experiences of people with borderline personality disorder admitted to acute psychiat-ric inpatient wards: a meta-synthesis. J. Ment. Health. 2019; 28 (4): 443-457. DOI: 10.1080/09638237.2017.1340594
- Forte A., Buscajoni A., Fiorillo A., et al. Suicidal Risk Following Hospital Discharge: A Review. Harv. Rev. Psy-chiatry. 2019; 27 (4): 209-216. DOI: 10.1097/HRP.0000000000000222
- Qin P., Nordentoft M. Suicide risk in relation to psychiat-ric hospitalization: evidence based on longitudinal regis-ters. Arch. Gen. Psychiatry. 2005; 62 (4): 427-432. DOI: 10.1001/archpsyc.62.4.427
- Национальное руководство по суицидологии. Под ред. Б.С. Положего. Москва: МИА, 2019. [The National Guide to Suicidology. Edited by B.S. Polozhego. Moscow: MIA, 2019.] (In Russ)
- Warrender D., Bain H., Murray I., Kennedy C. Perspec-tives of crisis intervention for people diagnosed with "borderline personality disorder": an integrative review. J. Psychiatric Mental Health Nurs. 2021; 28 (2): 208-236. DOI: 10.1111/jpm.12637
- Witt K.G., Hetrick S.E., Rajaram G., et al. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Rev. 2021; 4. Art: CD013668. DOI: 10.1002/14651858.CD013668.pub2
- Wood L., Newlove L. Crisis-focused psychosocial inter-ventions for borderline personality disorder: systematic review and narrative synthesis. BJPsych Open. 2022; 8 (3): e94. DOI: 10.1192/bjo.2022.54
- Bohus M., Stoffers-Winterling J., Sharp C., et al. Border-line personality disorder. Lancet. 2021; 398 (10310): 1528-1540. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00476-1
- Paris J. Suicidality in Borderline Personality Disorder. Medicina (Kaunas). 2019; 55 (6): 223. DOI: 10.3390/medicina55060223.
- Lequin P., Ferrari P., Suter C., et al. The Joint Crisis Plan: A Powerful Tool to Promote Mental Health. Front Psy-chiatry. 2021; 12: 621436. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.621436
- Rebok F., Teti G.L., Fantini A.P., et al. Types of border-line personality disorder (BPD) in patients admitted for su-icide-related behavior. Psychiatr Q. 2015; 86 (1): 49-60. DOI: 10.1007/s11126-014-9317-3
- DeLeo K., Maconick L., McCabe R., et al. Experiences of crisis care among service users with complex emotional needs or a diagnosis of “personality disorder”, and other stakeholders: systematic review and meta-synthesis of the qualitative literature. Bjpsych. Open. 2022; 8 (2): 53. DOI: 10.1192/bjo.2022.1
- American Psychiatric Association Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with bor-derline personality disorder. American Psychiatric Associ-ation. Am. J. Psychiatry. 2001; 158 (10 Suppl): 1-52. PMID: 11665545
- Bozzatello P., Rocca P., De Rosa M.L., Bellino S. Current and emerging medications for borderline personality dis-order: is pharmacotherapy alone enough? Expert Opin. Pharmacother. 2020; 21: 47- 61. DOI: 10.1080/14656566.2019.1686482
- Lunghi C., Cailhol L., Massamba V., et al. Psychotropic medication use pre and post-diagnosis of cluster B person-ality disorder: a Quebec’s health services register cohort. Front. Psychiatry. 2023; 14: 1243511. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1243511
- Heikkinen M., Taipale H., Tanskanen A., et al. Associa-tion of Pharmacological Treatments and Hospitalization and death in individuals with amphetamine use disorders in a Swedish Nationwide cohort of 13 965 patients. JAMA Psychiatry. 2023; 80: 31-39. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2022.3788
- Lieslehto J., Tiihonen J., Lähteenvuo M., et al. Associa-tion of pharmacological treatments and real-world out-comes in borderline personality disorder. Acta Psychiatr. Scand. 2023; 147: 603-613. DOI: 10.1111/acps.13564
- Cortese S., Adamo N., del Giovane C., et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. Psychiatry. 2018; 5: 727-738. DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30269-4
- Treagust N., Sidhom E., Lewis J., et al. The epidemiology and clinical features of personality disorders in later life; a study of secondary care data. Int. J. Geriatr. Psychiatry. 2022; 37. DOI: 10.1002/gps.5837
- Davies L.E., Spiers G., Kingston A., et al. Adverse out-comes of polypharmacy in older people: systematic review of reviews. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2020; 21: 181-187. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.10.022
- Li Y., Zhang X., Yang L., et al. Association between polypharmacy and mortality in the older adults: a system-atic review and meta-analysis. Arch. Gerontol. Geriatr. 2022; 100: 104630. DOI: 10.1016/j.archger.2022.104630
- Wong N.Z.Y., Barnett P., Rains L.S., et al. Evaluation of international guidance for the community treatment of ‘personality disorders’: a systematic review. PLoS One. 2023; 18: e0264239. DOI: 10.1371/journal.pone.0264239
- Lieslehto J., Tiihonen J., Lähteenvuo M., et al. Associa-tion of pharmacological treatments and real-world out-comes in borderline personality disorder. Acta Psychiatr. Scand. 2023; 147: 603-613. DOI: 10.1111/acps.13564
- 63. Stoffers-Winterling J., Storebø O.J., Lieb K. Pharma-cotherapy for borderline personality disorder: an update of published, unpublished and ongoing studies. Curr. Psy-chiatry Rep. 2020; 22: 37. DOI: 10.1007/s11920-020-01164-1
- Khalifa N.R., Gibbon S., Völlm B.A., et al. Pharmacologi-cal interventions for antisocial personality disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 9: Cd007667. DOI: 10.1002/14651858.CD007667.pub3
- Excellence NNIfHaC. Borderline personality disorder: recognition and management. Cg78. 2009: 1-40.
- Linehan M.M. Cognitive-behavioral treatment of border-line personality disorder. NY: Guilford Press; 1993.
- Friesen L., Gaine G., Klaver E., et al. Key stakeholders' experiences and expectations of the care system for indi-viduals affected by borderline personality disorder: An in-terpretative phenomenological analysis towards co-production of care. PLoS One. 2022; 17 (9): e0274197. DOI: 10.1371/journal.pone.0274197
- Warrender D., Bain H., Murray I., Kennedy C. Perspec-tives of crisis intervention for people diagnosed with "bor-derline personality disorder": an integrative review. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2021; 28 (2): 208-236. DOI: 10.1111/jpm.12637