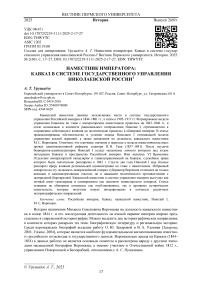Наместник императора: Кавказ в системе государственного управления николаевской России
Автор: Урушадзе А.Т.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Пространства интеграции в Российской империи: разнообразие институтов и производство лояльности
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
Кавказский наместник занимал эксклюзивное место в системе государственного управления Российской империи в 1844–1881 гг., а затем в 1905–1917 гг. Формирование модели управления Кавказом во главе с императорским наместником пришлось на 1842–1846 гг. и стало возможным в контексте рационального патернализма Николая I, стремившегося к сохранению собственного влияния на политические процессы в обширной империи. В статье проанализированы обстоятельства и условия поиска Николаем I оптимальной модели управления южной окраиной, а также назначения на должность кавказского наместника М. С. Воронцова. Отмечено, что ключевое значение в переходе к модели наместничества имел провал административной реформы сенатора П. В. Гана (1837–1841). После неудачи бюрократов-администраторов Николай I создал механизмы личного контроля над ходом интеграции Кавказа в пространство Российской империи. Ими являлись VI Временное Отделение императорской канцелярии и главноуправляющий на Кавказе, служебные права которого были значительно расширены в 1842 г. Спустя два года Николай I еще больше расширил сферу влияния региональной администрации во главе с наместником. Избранный монархом на эту должность новороссийский генерал-губернатор Воронцов отличался не только военным и административным опытом, но и навыками политического противостояния с центральной бюрократией. Кавказский наместник в системе управления империи выступал как личный агент самодержца и одновременно как оппонент министерского контроля. Статья основана на обширном комплексе как опубликованных, так и архивных исторических свидетельств, которые получили новую интерпретацию в контексте различных историографических направлений.
Российская империя, Кавказ, кавказский наместник, Николай I, М. С. Воронцов
Короткий адрес: https://sciup.org/147250807
IDR: 147250807 | УДК: 94(47) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-17-27
Текст научной статьи Наместник императора: Кавказ в системе государственного управления николаевской России
Первый кавказский наместник оставил глубокий след в истории Кавказа, о чем наглядно свидетельствует топонимика городов региона – Воронцовский сад, или роща в Ставрополе, Воронцовская аллея в Ессентуках и т.д. В этой связи вполне логично, что сформировалось и историографическое направление, в рамках которого рассматривается разнообразная деятельность Воронцова как главы региональной администрации, кавказского наместника. Здесь следует назвать цикл монографических работ С. С. Лазаряна, посвященные анализу административной, социальной и культурной деятельности наместника в регионе [ Лазарян , 2012; 2014; 2022].
Однако по-прежнему малоизученными остаются вопросы места и роли кавказского наместника в системе государственного управления, а также особенности его взаимодействия с лицами и институтами высшей и центральной власти. Это приводит к воспроизводству привычных ответов на вопрос об обстоятельствах и условиях появления в системе государственных институтов империи фигуры кавказского наместника. Речь идет о популярной в историографии объяснительной схеме, согласно которой Николай I, столкнувшись с системными военно-политическими проблемами на Кавказе, «вспомнил» о Кавказском наместничестве, существовавшем в 1785–1796 гг., и вернулся к этому проверенному административному институту [ Захарова , 2001, с. 325; Мунаев , 2012, с. 34; Лазарян , 2022, с. 56]. Как будет показано в статье, мотивация Николая I могла быть сложнее, а государственная мысль императора отличалась большей системностью.
Специальное рассмотрение наместника в контексте связей с императором и высшей бюрократией, а также пересмотр привычных историографических оценок помогут не только добавить новые детали к биографическому портрету Воронцова, но, что важнее, показать правительственные поиски оптимальной модели управления окраинами империи, выявить специфику и принципы российского империостроительства. Кроме того, исследование формальных и неформальных сетей кавказского наместника, оценка значения последствий учреждения этой должности, сопряженной со значительными политическими правами и административными привилегиями, позволит отойти от классической схемы описания окраинной политики, в которой центр управляет и модернизирует, а окраина лишена какой-либо субъектности. Кавказский наместник ‒ подходящий пример для того, чтобы увидеть, как окраина (в данном случае ‒ Кавказ) заставляла центр искать оптимальную модель управления и идти на пересмотр стандартных политических схем.
Император Николай I был одним из немногих представителей династии Романовых, прилагавших систематические усилия к личному участию в делах управления огромной империей. «Своей властной рукой он думал указать направление, по которому должна была развиваться промышленность, двигаться торговля, оживиться обмен ценностей, по которому должно было идти умственное развитие, мысль ученых, литераторов, развитие художества и техники», ‒ красноречиво отметил российский ученый и чиновник Э. Н. Берендтс ( Берендтс , 1913, с. 13).
Намерение быть настоящим самодержцем не только публично декларировалось, но и находило институциональное воплощение. Показательным примером первого следует считать разговор Николая I с директором канцелярии кавказского наместника С. В. Сафоновым, состоявшийся 26 сентября 1846 г. «Не судите о Кавказском крае, как об отдельном царстве. Я желаю и должен стараться сливать его всеми возможными мерами с Россией, чтобы все составляло одно целое. Я к этому стремлюсь и должен стремиться. Я стараюсь, чтобы все истекало отсюда [здесь он показал на свою грудь. – прим . С. В. Сафонова], чтобы тамошние жители знали и чувствовали, что они зависят от Севера, что на них падают лучи тамошнего солнца и что они получают свою жизнь и свое благосостояние, наравне с другими частями обширного царства русского, от одного светила. Вот к чему я стремлюсь», ‒ так император ответил на проект администрации наместника о введении свободной торговли на Кавказе (Архив князя Воронцова, 1892, кн. XXXVIII, с. 387).
Институциональное измерение настойчивого желания Николая I управлять, а не только царствовать воплотилось в возросшей роли императорской канцелярии, особенно в его III Отделении, созданном уже летом 1826 г. и находившимся, как известно, вне общей системы государственных учреждений [Троцкий, 1990; Бибиков, 2023]. С помощью разветвленной информа- ционной сети, представленной жандармскими офицерами, наблюдавшими за работой губернских администраций, Николай I получал сведения с мест напрямую, в обход министров, мимо центральной бюрократии. Это создавало политический противовес министерскому влиянию и не позволяло бюрократам отодвинуть императора от повседневного управления империей [Му-стонен, 1998, с. 275–276]. Собственная Его Императорского Величества канцелярия (СЕИВК) как личный секретариат императора являлась важнейшим институтом управления в николаевскую эпоху, но отнюдь не единственным учреждением, созданным для непосредственного участия монарха в государственных делах. Как отметил еще М. А. Полиевктов, «наряду с ростом значения Собственной Е.И.В. канцелярии характерной чертой высшей администрации николаевского времени было вообще возникновение отдельных частей и управлений, не входящих в состав министерств и находящихся в непосредственном ведении государя императора…» [По-лиевктов, 2019, с. 190].
Именно через особые комитеты и СЕИВК Николай I долгое время пытался наладить и управление Кавказом. Так, 11 июня 1833 г. был создан Комитет об устройстве Закавказского края, в задачи которого входил поиск оптимальной модели интеграции региона в общеимперское политическое пространство [ Лисицына , 1997, с. 140]. Эту работу продолжила Комиссия для составления положения об управлении Закавказским краем в 1837–1840 гг., которая находилась в ведении сенатора П. В. Гана, получившего широкие полномочия и специальные инструкция от императора (РГИА. Ф. 561. Оп. 1. Д. 206. Л. 549).
Сенатор Ган проектировал административные преобразования на Кавказе в соответствии с идеями об устройстве управления краем, которые уже предлагались ранее М. М. Сперанским, И. Ф. Паскевичем, сенаторами П. И. Кутайсовым и Е. И. Мечниковым. Генеральной целью реформы являлось достижение административно-судебного единообразия южной окраины с остальной империей. «Все власти будут действовать единодушно и сообразно с законами, каждая в своем определенном кругу, завися от центральной власти в С. Петербурге, будут подчинены строгой отчетности, не исключая даже вверяемой главноуправляющему власти по части полиции и распорядительной…», ‒ таким идеальный образ реформы видел сам сенатор Ган (РГИА. Ф. 561. Оп. 1. Д. 177. Л. 27).
Несмотря на то что в теоретическом отношении гановская реформа являлась продуманной и основательной, ее практическое внедрение в закавказский социально-политический уклад полностью провалилось. Это стало следствием как оторванности проектируемых норм и порядков от регионального контекста, так и результатом саботажа реформы со стороны местной имперской администрации (Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа, 1900, с. 37–40) [ Бибиков , 2018, с. 148]. Провал Гана произвел на Николая I тяжелое впечатление. Карьера неудачливого реформатора была окончена. Гана отправили заседать в Государственный совет, где он прослужил до 1847 г., когда подал в отставку. Тем не менее Николай I со свойственной ему чувствительностью к расстроенным финансам подданных удовлетворил просьбу Гана об уплате его многочисленных долгов на общую сумму 35 тыс. руб. серебром (РГИА. Ф. 561. Оп. 1. Д. 227. Л. 14).
В 1842 г. император усилил свое личное участие в делах управления Кавказом. Причем сделал это сразу по нескольким направлениям. Учреждается временное VI Отделение СЕИВК – специальный секретариат, занимавшийся Кавказом. Его возглавил опытный чиновник статс-секретарь М. П. Позен, но главным начальником являлся военный министр А. И. Чернышев – один из самых близких к императору сановников. В ноябре того же года непосредственно по инициативе и при личном участии Николая I расширились административные права и привилегии кавказской администрации, главный начальник края был выведен из министерской вертикали и поставлен в прямую связь с императором.
Усиление позиций региональной администрации было закреплено в двух важнейших документах: «Памятной записке, составленной Николаем I для главного начальника Кавказского края генерал-адъютанта Нейдгардта с программой его деятельности по военной, государственной и дипломатической части» (Российский архив…, 2003, с. 375–379; ГАРФ. Ф. 672. Оп.1. Д. 84. Л. 1‒9) и «Наказе Главному управлению Закавказским краем» (Наказ…, 1842). Согласно «Наказу» кавказский главноуправляющий превращался в почти полновластного хозяина края:
«Ему поручены все без изъятия части управления, дано полное право надзора и разрешения всех случаев, не требующих нового закона; предоставлено определять и увольнять всех чиновников, даже высших и высылать из края вредных лиц» (Там же, с. 32; РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 671а. Л. 42). Министры теперь должны были согласовывать любые нововведения с главноуправляющим. Более того, циркулярные распоряжения министров по новым правилам сообщались не прямо в губернские присутственные места, а в Главное управление края, которое «после должного соображения, передает губернским местам только те из них, в исполнении которых не может встретиться затруднения по обстоятельствам края» (Наказ, 1842, с. 6).
Главой кавказской администрации и командующим Отдельным Кавказским корпусом в ноябре 1842 г. был назначен генерал А. И. Нейдгардт. Это был педантичный офицер, доказавший свою преданность Николаю I еще при подавлении восстания декабристов [ Выскочков , 2022, с. 93]. Однако опыта гражданской администрации и глубоких знаний о Кавказе новый главноуправляющий не имел. По воспоминаниям В. С. Толстого: «Всех изумило назначение Нейдгардта командиром Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью, как генерала, не имеющего никакой военной репутации и никогда не управлявшего самостоятельно гражданской частью, в страну где кипела самая трудная война и где сложное гражданское управление еще далеко не устоялось и требовало трудные головоломные соображения к учреждениям остальной империи» [ Толстой , 1996, с. 233–234]. Толстой известен как язвительный мемуарист, но здесь ему можно верить: Нейдгардта трудно считать самой очевидной кандидатурой на это должность. Компенсировать слабую подготовку Нейдгардта к самостоятельному управлению южной окраиной должна была, уже упомянутая, подробная инструкция Николая I.
Император ждал от Нейдгардта в военном отношении стойкой обороны уже занятых рубежей на Северном Кавказе и постепенных, но неуклонных улучшений в работе гражданской администрации. В записке, составленной Николаем I, особенно привлекает внимание, что начальник Кавказского края назван «доверенным лицом» самого императора. «Он [кавказский главноуправляющий. – А. У. ] пользуется обширной властью и мне одному дает отчет в своих действиях», ‒ подчеркивал Николай I (ГАРФ. Ф. 672. Оп.1. Д. 84. Л. 8). Показательными являются и заключительные тезисы императорской инструкции: «Во всех случаях, где генерал Нейдгардт считает сие нужным, он обращается прямо ко мне, и от меня одного получает разрешения, но сего полномочия не употребляет во зло и не обременяет меня не дельными представлениями о предметах, которые сам разрешить может. Развязанный таким образом в своих действиях и свободный от мелочного управления, он имеет время напрягать все свои силы и способности к общей моей цели: помня, что ежели моя доверенность к нему велика, столь важна и его ответственность пред Богом и Государем» (Там же. Л. 9).
Нейдгардт не проявил себя как энергичный и эффективный администратор и уже в декабре 1844 г. покинул свой пост. Но важнее здесь то, что Николай I фактически перешел к управлению Кавказом через лично доверенных и полновластных региональных начальников еще осенью 1842 г., за два года до назначения М. С. Воронцова кавказским наместником.
Новацией в случае назначения Воронцова на Кавказ было введение новой должности – наместника. До «кавказского» назначения Воронцова (ноябрь 1844 г.) в административной структуре Российской империи в тот момент был только один региональный администратор в статусе наместника. Речь идет о наместнике Царства Польского генерал-фельдмаршале И. Ф. Паскевиче, который являлся одним из любимцев Николая I, о чем убедительно свидетельствуют дружеские письма императора [ Щербатов , 1896, с. 3–55]. Номинация «наместник» имела очевидные коннотации не только с высокой административной должностью, но и с титулом, как в Московском государстве XVI–XVII вв. [ Талина , 2012, с. 39–48].
Статус наместника на символическом уровне наделял положение Воронцова в системе государственного управления империей эксклюзивными характеристиками. В ноябрьском (1844 г.) рескрипте Николай I подчеркивал свое особое доверие к Воронцову: «Считаю нужным избрать исполнителем моей непременной воли лицо, облеченное моим неограниченным доверием и соединяющим, с известными военными доблестями, опытность гражданских дел, в сем поручении равномерно важных» (АКАК, 1885, с. 1). В то же время административные полномочия, полученные Воронцовым, были в основном предоставлены еще его предшественнику генералу Нейдгардту. В высочайшем рескрипте Воронцову от 30 января 1845 г. (Там же, с. 2), по сути, были коротко изложены с незначительными дополнениями основные положения двух упоминавшихся ранее документов 1842 г.: «Наказа Главному управлению Закавказским краем» и «Памятной записке Нейдгардту». В заключительной части рескрипта Николай I фиксировал особое положение наместника в административной структуре империи и выражал уверенность в правильности своего выбора: «Открывая вам таким образом все способы к употреблению с полною властью неусыпной деятельности вашей и многолетней опытности в делах государственного управления на пользу края, вам вверенного, я уверен, что действия ваши на сем новом поприще будут сопровождаться такими же успехами, какими доныне всегда ознаменовывалась долговременная, полезная престолу и отечеству служба ваша» (Там же).
Почему Николай I был так уверен в том, что он угадал с назначением Воронцова? Логичный ответ может заключаться в следующем: Воронцов проявил себя как эффективный администратор в Новороссии и Бессарабии и был знаком с Кавказом, прослужив здесь в 1803–1805 гг. еще под началом П. Д. Цицианова. Именно на это чаще всего указывается в историографии [ Захарова , 2001, с. 325–328; Удовик , 2004, с. 229; Лазарян , 2022, с. 56]. Однако этого мало. В 1840-х гг. в распоряжении Николая I было достаточно генералов, которые прошли Кавказ и имели большой военно-административный опыт. В качестве примера можно назвать западносибирского генерал-губернатора П. Д. Горчакова, который в 1820–1826 гг. управлял Имеретией, или Н. Н. Муравьева, воевавшего на Кавказе в 1820–1830-х гг. под командованием А. П. Ермолова и И. Ф. Паскевича. Принято считать, что Воронцов пользовался личным доверием Николая I. В этом единодушны мемуаристы николаевской эпохи, а некоторые специально подчеркивают его неограниченный характер (Российский архив…, 2010, с. 714). Однозначно определить источник и природу этой доверенности затруднительно, сколь-нибудь обширная личная переписка Николая I и Воронцова неизвестна. Есть некоторые основания предполагать, что доверие императора могло сформироваться на основе благоприятных отзывов, которые Воронцов получал в отчетах III Отделения. Так, в «Нравственно-политическом отчете за 1843 год» Воронцов, который тогда являлся новороссийским генерал-губернатором, охарактеризован следующим образом: «Испытанная благонамеренность графа Воронцова – этого образца русских сановников, кротость его нрава и благоразумные распоряжения приобрели ему всеобщую любовь и уважение новороссийских жителей. Он сделал то, что край, ему вверенный, есть единственный, в котором не слышны жалобы и который, процветая, приходит ежегодно в лучшее устройство и, между тем, менее всех других дает забот правительству» (Россия под надзором, 2006, с. 328).
Вполне ясно, что наместником мог стать только доверенный императору человек с большим военно-административным опытом. Однако не менее важно и то, что кавказский наместник как личный агент императора должен был уметь отстаивать свою административную автономию в системе государственных учреждений.
В Российской империи первой половины XIX в. военная служба была основной и почти единственной школой управления [ Бикташева , 2012, с. 83]. Губернии в основном возглавлялись генералами без политических навыков и вкуса к административной деятельности. Все это заметно выделяло Воронцова на фоне других российских губернаторов, о чем убедительно писал еще П. А. Зайончковский [ Зайончковский , 1978, с. 149].
Николай I создавал условия для сохранения личного участия в делах южной окраины, и это требовало надежного и устойчивого канала прямой связи монарха с регионом, без бюрократов-посредников и помех с их стороны. И здесь кандидатура Воронцова была вне конкуренции: богатый, знатный, знаменитый и главное – старый оппонент министерского контроля.
Еще в 1826 г. Воронцов, управлявший тогда Новороссией и Бессарабией, конфликтовал с министром юстиции Д. И. Лобановым-Ростовским. Новороссийский генерал-губернатор был недоволен работой председателя Одесского коммерческого суда Дембровского, который, по мнению Воронцова, затруднял работу местных коммерсантов. Чиновник, в свою очередь, жаловался на Воронцова в министерство, указывая, что генерал-губернатор грубо вмешивается в дела правосудия. Начальник Новороссии и Бессарабии обратился за арбитражем в Комитет министров и отдельно просил рассмотреть это дело без участия Лобанова-Ростовского, который, по словам Воронцова, «не оказал с самого начала дела приличного званию генерал-губернатора доверия» [Институт генерал-губернаторства…, 2003, т. 2, с. 135]. Комитет министров взял сторону Воронцова. Лобанов-Ростовский не пользовался популярностью у столичной публики [Вигель, 2000, с. 124]. Возможно, что это также могло повлиять на решение Комитета министров предать Дембровского суду.
Два года спустя Воронцов обратился непосредственно к императору Николаю I с идеей подчинить офицеров Корпуса инженеров путей сообщения генерал-губернаторам. Поводом к этому обращению стало неудовлетворительное качество работ, проведенных корпусом, по сооружению мостовых и тротуаров в Одессе. При этом Корпус инженеров входил в состав Главного управления путей сообщения и публичных зданий, которое в это время возглавлял дядя Николая I герцог Александр Вюртембергский. Дело было рассмотрено в Комитете министров, и здесь было решено в пользу региональной администрации. Комитет министров рекомендовал подчинить дорожное строительство генерал-губернаторам. Однако Николай I не во всем согласился: «Касательно же подчинения офицеров путей сообщения губернскому начальству, не разрешаю; но каждый раз представлять о том мне, ибо по искусственной части в губерниях не везде люди в состоянии судить о достоинстве производимых работ» [Институт генерал-губернаторства…, 2003, т. 2, с. 135].
Таким образом, Воронцов к моменту назначения на должность кавказского наместника уже имел опыт служебно-иерархического противостояния с центральной бюрократией. В этом смысле Воронцов был настоящим политиком, если под политикой понимать административное предпринимательство и вовлеченность в сети неформального взаимодействия служилой элиты.
Письма М. С. Воронцова к М. М. Сперанскому, датированные 1823–1833 гг., свидетельствуют о широких личных связях новороссийского генерал-губернатора и впоследствии кавказского наместника с самим Сперанским, а также с Н. С. Мордвиновым, В. П. Кочубеем, А. С. Грейгом (ОР РНБ. Ф. 731. Оп. 1. Д. 2040. Л. 3–7). Это существенно дополняет и без того внушительную картину неформальных связей Воронцова с некоторыми другими влиятельными военными и государственными деятелями, представленную в монографии М. А. Давыдова [ Давыдов , 1994].
Вскоре после назначения Воронцова кавказским наместником VI Временное отделение СЕИВК, занимавшееся делами южной окраины, было упразднено, а его начальник статс-секретарь М. П. Позен отправлен в отставку. Скорее всего, отставка Позена, считавшегося одним из основных экспертов по Кавказу в российском правительстве, была связана с конфликтом между ним и Воронцовым, который имел место в январе 1845 г. в процессе определения границ служебных прав и привилегий кавказского наместника [ Корф , 2003, с. 345–346].
Талантливый и трудолюбивый чиновник-канцелярист Позен был близок Николаю I и великому князю Михаилу Павловичу. Однако большим пятном на его репутации стал провал реформы Гана. Позен принимал непосредственное участие в подготовке злосчастных преобразований и до последнего был уверен в успехе Гана (РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 671а. Л. 33). В отличие от Воронцова, Позен не пользовался популярностью в обществе, а скорее, напротив, раздражал столичную публику своими непропорционально большими успехами и влиянием для человека незнатного происхождения. Николаю I неизбежно пришлось бы сделать выбор, так как и Воронцов, и Позен в системе власти императора выполняли равнозначные функции – обеспечивали непосредственное участие монарха в управлении южной окраиной. Позен был явно лишним звеном в новой конфигурации управления Кавказом, он занимал бы место между Николаем I и Воронцовым, что было бесполезно для первого и недопустимо для второго. Об этом замечательно написано в дневнике А. В. Никитенко: «Позен настолько умен и сознателен, что не мог занимать важное место без влияния, а граф Воронцов не мог допустить, чтобы между ним и государем состоял посредником умный человек» [ Никитенко , 1955, т. I, с. 237].
В историографии отмечается, что Воронцов как кавказский наместник получил широчайшие административные права и привилегии. При этом упоминаются два свидетельства полновла- стия наместника: Высочайший рескрипт от 30 января 1845 г. и Правила об отношениях наместника кавказского от 6 января 1846 г. [Лисицына, 2005, с. 223; Захарова, 2001, с. 327; Лазарян, 2022, с. 229]. Эти документы действительно фиксировали положение кавказского наместника в системе государственных институтов, но в политическом пространстве империи это являлось скорее военной диспозицией, а не итоговым пактом. Положения данных документов Воронцову предстояло отстаивать в противостоянии с центральной бюрократией, которая тут же начала практику административных интервенций в сферу власти наместника. Взаимодействие кавказского наместника с министрами и главноуправляющими, которое преимущественно происходило в процессе работы Кавказского комитета как особого правительства для Кавказа, остается малоизученным сюжетом в истории государственного управления Российской империи.
Министерство финансов занимало особое место в российском бюрократическом раскладе. Ведомство должно было обеспечить финансовую стабильность империи в условиях дорогостоящей конкуренции с другими великими державами. Во второй четверти XIX в. Кавказ являлся одним из пространств напряженного российско-британского дипломатического противостояния [ Дегоев , 2004]. Кавказская война стоила дорого, и в 1844 г. министр финансов Е. Ф. Канкрин призывал Николая I или немедленно подавить сопротивление горцев, или в случае невозможности быстрой и решительной победы над Шамилем прекратить военные действия. Император не стал отвечать на дилемму Канкрина [ Полиевктов , 2019, с. 221]. Вскоре ввиду подорванного здоровья Канкрин оставил свой пост, который занял его протеже Ф. П. Вронченко (Министерство финансов…, 1902, ч. I, с. 203).
Новый министр финансов унаследовал скептицизм своего предшественника в отношении проводимого императором политического курса на Кавказе. Это сделало Вронченко одним из самых последовательных и опасных противников Воронцова. Уже в марте 1846 г. министр финансов обратился в Кавказский комитет с описанием многочисленных административных неудобств, которые, по мнению Вронченко и чиновников его ведомства, возникли с утверждением «Правил об отношениях кавказского наместника». Объектом критики являлся ключевой тезис «Правил», согласно которому: «Все вообще, находящиеся в Закавказском крае и Кавказской области, правительственные места и лица, как принадлежащие к общему губернскому управлению, так и отделенные от оного, вполне подчиняются наместнику кавказскому» (Правила об отношениях кавказского наместника, 1846, с. 5).
Вронченко указывал, что такое отделение местных финансовых институтов (Тифлисской казенной палаты) от общего ведомственного влияния неизбежно приведет к застою в делах. В качестве примеров приводились случаи, когда в разрешение административных задач были вовлечены казенные палаты различных губерний ‒ как подчиняющиеся кавказскому наместнику, так и находящиеся вне его дискреции. Это могли быть многочисленные дела о переходе лиц податных состояний из одной губернии в другую, о крестьянских переселениях, о переводах податных платежей. В таких случаях, по мнению Вронченко, требовались общие директивы, иначе «дело не будет иметь единства и остановится» (РГИА. Ф. 561. Оп. 1. Д. 323. Л. 62–65).
Кавказский комитет нашел доводы министра финансов убедительными. В конце декабря 1846 г. Николай I утвердил «Правила об отчетности в суммах по Закавказскому краю и Кавказской области», а также «Правила о снабжении питейных сборов Кавказской области вином». Согласно «Правилам об отчетности» ревизия «всякого рода счетов и отчетов» по Закавказскому краю и Кавказской области оставалась в ведении Министерства финансов. Кроме того, для составления смет и отчетов министр финансов получал право требовать сведения напрямую от чиновников Тифлисской казенной палаты без предварительного обращения к наместнику (Там же. Л. 224). Такую же процедуру прямого обращения министра финансов к подведомственным местам предусматривали и «Правила для снабжения питейных сборов Кавказской области вином» (Там же. Л. 225).
Вронченко сумел сохранить влияние своего ведомства на Кавказе и впоследствии предпринимал и другие попытки ограничить самовластие кавказского наместника. Необходимо отметить, что Воронцов не стремился к независимости в области финансовой политики, подчеркивая, что бюджет Кавказского края является неотъемлемой частью общеимперской экономи- ческой системы [Правилова, 2006, с. 111–112]. При преемниках Воронцова именно министр финансов оставался главным антагонистом кавказских наместников.
Можно выделить два типа вопросов, при обсуждении которых в Кавказском комитете министры, прежде всего финансов и внутренних дел, проявляли наибольшую принципиальность и несговорчивость. Это, во-первых, чинопроизводство и награждение чиновников (ордена и дополнительные оклады), во-вторых, назначение пенсий и пособий представителям региональных этнических элит. И в одном, и в другом случае речь шла не столько о новых расходах для казны, сколько о производстве лояльности. Министры противились превращению наместника в главного патрона чиновников, служащих на южной окраине. Успешные чинопроизводства и/или награждения, инициированные наместником, укрепляли авторитет регионального начальника и, соответственно, стимулировали лояльность бюрократов. Материальная поддержка местных этнических элит рассматривалась наместником и министрами противоположным образом. Если наместник считал, что дополнительные расходы из казны с лихвой окупятся верностью элитных групп, то министры считали такие расходы чрезмерными, а политический результат ненадежным (РГИА. Ф. 1268. Оп. 26. Д. 9. Л. 355–364). Именно по этим вопросам Воронцов зачастую активировал опцию прямого обращения к Николаю I (РГИА. Ф. 1268. Оп. 4. Д. 57. Л. 1–7).
Важным механизмом коммуникации императора и кавказского наместника были ежегодные всеподданнейшие отчеты, которые доставлялись «в собственные руки» Николая I (РГИА. Ф. 1268. Оп. 3. Д. 22. Л. 1). Император лично читал воронцовские отчеты и реагировал на их содержание, выделял некоторые фрагменты и/или оставлял комментарии. Реакция Николая I затем доносилась военным министром и председателем Кавказского комитета А. И. Чернышевым до сведения наместника (Там же. Л. 202–206). Отчеты наместника после их чтения императором передавались и для ознакомления министрам. Таким образом, реакция и комментарии императора по всеподданнейшим отчетам Воронцова становились важной частью политического взаимодействия наместника и министров.
Система управления Кавказом, построенная Николаем I в 1842–1846 гг., в своих главных основаниях сохранилась вплоть до 1881 г. Институт кавказского наместника с его широкими административными правами и эксклюзивным местом в пространстве государственных учреждений стал возможен благодаря настойчивому желанию Николая I управлять империей, а не только слушать доклады министров. Воронцов как кавказский наместник находился вне бюрократической вертикали и выступал в роли персонифицированной воли самого императора. Это положение со временем превратило кавказского наместника в посредника между местными элитами и метрополией, а также в покровителя и патрона всего региона. Именно эти политические и символические функции с различной эффективностью выполняли все преемники Воронцова в Тифлисе. Представляется, что дальнейшая исследовательская разработка данных сюжетов позволит уточнить и расширить имеющиеся научные представления об организации управления и режимах управляемости в Российской империи XIX – начала XX в.