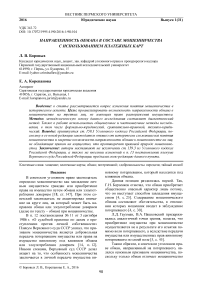Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт
Автор: Боровых Л.В., Корепанова Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 1 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается вопрос изменения понятия мошенничества в историческом аспекте. Цель: проанализировать возможность направленности обмана в мошенничестве на третьих лиц, не имеющих право распоряжения имуществом. Методы: методологическую основу данного исследования составляет диалектический метод. Также в работе использовались общенаучные и частнонаучные методы исследования, в том числе формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический. Выводы: критикуется ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в ее новой редакции законодатель отошел от исторически сложившегося понятия мошенничества и закрепил возможность направленности обмана в мошенничестве на лиц, не обладающих правом на имущество, что противоречит правовой природе мошенничества. Заключение: авторы настаивают на исключении ст. 159.3 из Уголовного кодекса Российской Федерации, а также на внесении изменений в п. 13 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации, предлагая свою редакцию данного пункта.
Хищение, платежные карты, обман, потерпевший, "добровольность" передачи, тайный способ
Короткий адрес: https://sciup.org/147202549
IDR: 147202549 | УДК: 343.72 | DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-98-104
Текст научной статьи Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт
В советском уголовном праве законодатель определял мошенничество как завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием [18, ст. 147]. При этом советский законодатель не акцентировал внимание на круге лиц, на который может быть направлен обман или злоупотребление доверием (далее по тексту – обман) при мошенничестве.
В п. 12 постановления № 11 от 5 сентября 1986 г. «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности» Пленум Верховного суда СССР указал, что признаком мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием [14, п. 12]. Иными словами, Верховный суд СССР делал акцент на то, что особенность мошенничества заключается в личной передаче имущества ви- новному потерпевшим, который находится под влиянием обмана.
Данная позиция разделялась наукой. Так, Г.Н. Борзенков отмечал, что обман приобретает общественно опасный характер лишь потому, что он выступает способом завладения имуществом [4, с. 25]. Содержание мошеннического обмана составляют обстоятельства, в отношении которых мошенник вводит в заблуждение потерпевшего [4, с. 30].
Л.Д. Гаухман, В.А. Пашковский придерживались аналогичной точки зрения, полагая, что приобретение имущества при мошенничестве осуществляется не в результате его изъятия помимо воли потерпевшего, а вследствие передачи имущества или имущественных прав виновному потерпевшим по своей воле [5, с. 45].
Таким образом, в советском уголовном праве обман, направленный на потерпевшего, являлся основным признаком мошенничества, поскольку только обман отличает мошенничество
от всех иных форм хищения. Именно под воздействием обмана у потерпевшего формировалось желание передать имущество, т. е. для мошенничества была характерна внешняя «добровольность» передачи имущества. Мошенничество, как форма хищения, сравнивалось со сделками, совершенными с пороками воли, когда намерение к отчуждению имущества было личным волеизъявлением потерпевшего, сформированным под влиянием обмана в отношении отдельных фактов. В случаях, когда обман имел место при изъятии, но передача имущества происходила не под воздействием обмана, такое преступное деяние квалифицировалось как иная форма хищения, поскольку оно не содержало признаков мошенничества, а именно способа совершения преступления [8, с. 149–150].
В 1996 г. российский законодатель в ст. 159 УК РФ закрепил отличное от советского понятие мошенничества, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Но все же, как и раньше, обман и злоупотребление доверием остаются обязательными признаками состава мошенничества. И поскольку вслед за принятием Уголовного кодекса РФ, от Пленума Верховного суда новых разъяснений по составу мошенничества не последовало, то на практике презюмировалась направленность обмана на потерпевшего.
Основное содержание
С развитием экономики и технологий преступники стали использовать для незаконного изъятия имущества обман не только в отношении потерпевшего, но и третьих лиц, не обладающих правомочием распоряжения имуществом. В связи с этим начали появляться нетрадиционные формы хищения. В частности, в России в начале перестройки, как отмечает А.Ю. Федоров [19], появились случаи рейдерства, особенность которого заключалась в воздействии путем обмана на государственные органы, регистрирующие переход прав от одного акционера к другому. Также путем предъявления в торговой организации для оплаты товара чужой или поддельной платежной карты имущество законного владельца карты изымалось, хотя обман был направлен на сотрудника торговой организации, не обладающего правом распоряжения имуществом и не являющегося потерпевшим (согласно п. 1, 2 ст. 209, п. 1, 3 ст. 845, ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, правом распоряжения по картам обладает собственник денежных средств либо лицо, уполномоченное осуществлять распоряжение от его имени).
Вопреки распространению неклассических способов изъятия имущества большинство авторов следуют традиционно сложившейся трактовке мошенничества, аргументируя это тем, что если обман не обусловливает передачу имущества от собственника или законного владельца к виновному лицу, то и «добровольность» сделки, которая характерна для мошенничества, отсутствует.
Так, по мнению А.И. Бойцова, специфичность развития причинной связи при мошенничестве состоит в том, что в акте перехода имущества принимает непосредственное участие сам потерпевший, действующий (или бездействующий) под влиянием заблуждения [2, с. 111].
Аналогичного определения мошенничества придерживались и другие ученые [3, с. 47], подчеркивающие, что потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право [3, с. 47].
Н.А. Лопашенко акцентирует внимание на сути мошенничества: «…получение имущества, внешне добровольно, от самого потерпевшего» [10, с. 124]. Именно посредством информационного воздействия на потерпевшего происходит искажение воли последнего, и потерпевший желает передать виновному имущество [10, с. 126].
С целью разрешить возникшие противоречия Пленум Верховного суда РФ в постановлении № 51 от 27 декабря 2007 г. расширил содержание понятия обмана в составе мошенничества [13]. Так, он разъяснил, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами [13, п. 1]. Заметим, что указанный круг лиц, на который, согласно позиции Пленума ВС РФ, может быть направлен обман при совершении мошенничества, выходит за рамки понятия потерпевшего, указанного в ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым потерпевшим в преступлениях против собственности признается собственник либо владелец имущества. Следовательно, теперь обман в мошенничестве имеет более широкое содержание, в соответствии с которым он может быть направлен не только на потерпевшего, но и на третьих лиц, не обладающих правом распоряжения имуществом. Таким образом, на сегодняшний день судебная практика не придерживается традиционного подхода в понимании сущности мошенничества, согласно которому обман при совершении мошенничества должен быть направлен на потерпевшего и именно под его воздействием потерпевший должен сам добровольно передать свое или находящееся у него на законном основании имущество виновному.
Такая позиция, безусловно, не может не вызывать сомнений. Нам представляется, что если исключить направленность обмана на потерпевшего из механизма хищения, то такие действия не будут отличаться от кражи, поскольку отчуждение имущества не будет являться волевым действием самого потерпевшего. Как было указано ранее, особенность мошенничества заключается в том, что под воздействием обмана именно лицо, имеющее право распоряжаться имуществом, вводится в заблуждение и передает его, т. е. под воздействием обмана искажается воля лица, передающего имущество. Следовательно, в случаях когда обман не направлен на лицо, являющееся собственником либо владельцем имущества, можно говорить лишь о тайном или открытом изъятии имущества, поскольку для потерпевшего изъятие имущества происходит помимо его воли, а обман служит лишь средством, облегчающим доступ к имуществу.
Аналогичная позиция, несмотря на существующее постановление пленума Верховного суда Российской Федерации, высказывается некоторыми авторами [9; 7]. Более того, Л.С. Аистова [1, с. 102] подчеркивает важность осознания потерпевшим принятого на основе обмана решения о передаче прав на имущество виновному. Так, она отмечает, что в случаях если потерпевший, передавая свое имущество виновному, не уступает своего права собственности на него, а лишь передает для доставки, например, в камеру хранения, то речь идет о краже.
Несмотря на разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации, суды, в случае отсутствия прямого указания в диспозиции статьи на направленность обмана на третьих лиц, придерживаются аналогичной позиции, и когда обман при совершении хищения не направлен на потерпевших, такие действия квалифицируются как кража.
Так, Лесозаводской районный суд Приморского края исключил из объема обвинения ч. 2 ст. 159 УК РФ как излишне вмененную, аргументируя тем, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицам. Б., имея долговые обязательства перед Ф., ввел его в заблуждение, заверив последнего, что собственника у автомобиля не имеется (умер) и Ф. может им распоряжаться, так как ранее автомобиль принадлежал Б. Ф., будучи уверенным в законности своих действий, забрал автомобиль, принадлежащий А., с целью дальнейшего использования. Поскольку Ф. не относится к указанным лицам и не имел прав распоряжаться, владеть похищенным автомобилем, то Б. не вводил в заблуждение перечисленных выше лиц. Приговором Лесозаводского районного суда Приморского края Б. был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [16].
Аналогичная мотивировка была дана судами при вынесении приговоров по однотипным уголовным делам, где потерпевший не участвовал в процессе отчуждения имущества, а изъятие осуществлялось в его отсутствие и помимо его воли, хотя обман использовался виновным, но направлен был на иных лиц, которые не обладают правом распоряжения имуществом [15].
Заметим, что Пленум Верховного суда РФ указывает в п. 17 упомянутого постановления «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: в случаях когда обман используется для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе изъятия которого действия обнаруживаются собственником или иным владельцем этого имущества либо другим лицом, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж (например, когда лицо просит у владельца мобильный телефон для временного использования, а затем скрывается с похищенным телефоном) [13, п. 17].
Следовательно, если обман используется при совершении хищения чужого имущества, но не является причиной искажения воли лица, господствующего над вещью, то такие действия не следует квалифицировать по составу мошенничества, поскольку отсутствует обязательный способ совершения хищения.
При существующих разных позициях, законодатель вслед за Пленумом Верховного суда Российской Федерации [13], Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207 – ФЗ [11] вводит новый состав в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающий ответственность за мошенничество с использованием платежных карт. Часть 1 статьи 159.3 УК РФ определяет мошенничество с использованием платежных карт как хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Следовательно, с декабря 2012 г. законодатель официально, вопреки традиционному пониманию мошенничества и сложившейся практике, закрепил возможность направленности обмана при совершении мошенничества не только на потерпевшего, имеющего право распоряжения имуществом, но и на третьих лиц, которые таким правом не обладают, а выступают лишь в роли лиц, присутствующих при совершении преступления. Заметим, что на сегодняшний день это единственный состав мошенничества, в котором законодатель определил возможность направленности обмана не только на потерпевшего.
Представляется, что законодатель поспешил принимать статью в такой редакции, поскольку, как уже было указано выше, если при мошенничестве обман не направлен на потерпевшего, но при этом используется как средство облегчения доступа к имуществу и направлен на третьих лиц, то он не обусловливает передачу имущества. А поскольку он не обусловливает передачу имущества и не воздействует на волю лица, которое имеет право распоряжаться имуществом, то изъятие имущества происходит тайно или открыто, помимо воли собственника или иного владельца имущества и такие действия нельзя признать мошенничеством.
Следует особо отметить, что работник кредитной, торговой или иной организации не является лицом, которое имеет права распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевом счете держателя карты, а также лицом, которое правомочно принимать решения о списании денежных средств. Только держатель карты имеет право распоряжения денежными средствами. Ни банк, ни сотрудник торговой, кредитной организации не могут ограничить право держателя карты распоряжаться денежными средствами [6, п. 3 ст. 845]. По своей правовой природе сотрудник торговой, кредитной, сервисной организации выполняет лишь функцию «терминала». Поэтому обман, который использует преступник с целью обналичивания денежных средств, является лишь средством облегчения доступа к имуществу. Иными словами, присутствие сотрудника торговой или иной организации при незаконном изъятии денежных средств при помощи платежной карты не является препятствием для хищения безналичных денежных средств. Более того, как правило, такой сотрудник не осознает противоправный характер действий преступника. Следовательно, здесь вполне уместно говорить о тайном способе хищения денежных средств, поскольку он имеет место и в случаях, когда присутствующее лицо не осознает противоправность этих действий [12, п. 4].
Отметим, что в зависимости от вида банковской карты терминалы, установленные в торговых и иных организациях, для совершения операции могут требовать ввода пин-кода, а могут его не требовать. Следовательно, если незаконный держатель карты вводит пин-код, который необходим для совершения операции, то в данном случае обман не будет направлен на сотрудника торговой, кредитной или иной организации, поскольку механизм расчета и списания денежных средств будет идентичен механизму обналичивания денежных средств посредством банкомата. В связи с этим представляется, что разграничение кражи, грабежа и мошенничества только по признаку присутствия сотрудника торговой, кредитной организации является недостаточным, поскольку не учитывается в полной мере субъективная сторона при механизме изъятия денежных средств.
Обман, как способ мошеннического завладения, является необходимой фактической предпосылкой, причиной неправомерного перехода имущества из владения, ведения собственника или иного правомочного лица в незаконное владение виновного. Обман при мошенничестве используется только с целью совершить хищение, поскольку без него получить денежные средства невозможно. При этом обналичить денежные средства можно, заказав товары и услуги через сеть Интернет, а не непосредственно в магазине.
Результаты
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обман, как способ совершения хищения, должен способствовать передаче имущества, а следовательно, решение о передаче такого имущества может принимать только лицо, которое имеет на законном основании право распоряжения таким имуществом, т. е. потерпевший. В случаях когда обман направлен на иных лиц, можно говорить лишь об обмане как о средстве облегчения доступа к имуществу, а не о способе его изъятия. В связи с тем, что поскольку при таком механизме совершения хищения отсутствует обязательный признак объективной стороны мошенничества – способ совершения преступления, то такие действия нельзя признать мошенничеством и они должны быть квалифицированы как кража.
Следовательно, введенная ст. 159.3 УК РФ применяется на практике формально, так как противоречит правовой природе мошенничества. И в связи с тем, что такой состав мошенничества не использует обман как способ совершения преступления, назвать его мошенничест- вом можно условно. Кроме того, при исключении состава из Уголовного кодекса Российской Федерации данный вид преступлений не останется не охваченным другими составами преступления и, более того, исключение данного состава преступления поможет решить назревшие противоречия по конкуренции норм специальных составов преступления.
Выводы
Таким образом, предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно исключить ст. 159.3 УК РФ. А также внести изменения в п. 13 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и изложить его в следующей редакции: «Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты независимо от того, осуществлялась ли выдача наличных денежных средств посредством банкомата либо при участии уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Содеянное следует квалифицировать по соответствующей части статьи 158 УК РФ».
Список литературы Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт
- Аистова Л.С. Кража: анализ состава преступления и проблемы квалификации. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2009. 103 с.
- Бойцов А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т./под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2008. Т. 3: Преступления в сфере экономики. 786 с.
- Бондарь А.В., Старков О.В., Упоров И.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности/под общ. ред. О.В. Старкова; М-во образования РФ. Сыктывк. гос. ун-т. Сыктывкар, 2003. 140 с.
- Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: Юрид. лит., 1971. 168 с.
- Гаухман Л.Д., Пашковский В.А. Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан. М.: Знание, 1978. 64 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)//Рос. газета. 1996. № 23.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т./под ред. А.В. Брил-лиантова. М., 2015. Т. 1 . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1974. 336 с.
- Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма: ИНФРА-М., 2012 . Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авт. коммент. к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-дер. закон от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ//Рос. газета. 2012. № 278.
- О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29//Рос. газета. 2003. № 9.
- О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 27 дек. 2007 г. № 51//Рос. газета. 2008. № 4.
- О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности : постановление Пленума Верхов. Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 (ред. от 30.11.1990) (док. недейств.). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс».
- Приговор от 16.06.2011 г. по уголовному делу № 1-152/2011, вынесенный Новомосковским городским судом Тульской области. URL: http://novomoskovsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num= 1 & name_op=doc&number=9457720&delo_id= 15 40006&new=0&text_number= 1&case_id=3587 643 (дата обращения: 29.10.2015).
- Приговор от 24.06.2013 г. по уголовному делу № 1-93/2013, вынесенный Лесозавод-ским районным судом Приморского края. URL: http://lesozavodsky.prm.sudrf.ru/modu-les.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ op=doc&number=46909383&delo_id=154000 6&new=0&text_number=1 (дата обращения: 29.10.2015).
- Смолин С.В. Обман суда: способ мошенничества или преступление против правосудия?//Уголовное право. 2015. № 1. С. 91-95.
- Уголовный кодекс РСФСР: утв. Верхов. Советом РСФСР 27 окт. 1960 г. (ред. от 30 июля 1996 г.) (док. недейств.)//Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 497.
- Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж . Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».
- Яни П. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения и растраты: объективная сторона преступления//Законность. 2008. № 4, 5, 6 . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».