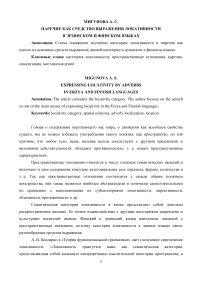Наречие как средство выражения локативности в эрзянском и финском языках
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению категории локативности и наречия как одного из основных средств выражения данной категории в эрзянском и финском языках.
Категория локативности, локализация, местонахождение, наречие, пространственные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147248638
IDR: 147248638 | УДК: 81’367.624=811.511.152.1+111
Текст научной статьи Наречие как средство выражения локативности в эрзянском и финском языках
Говоря о содержании окружающего нас мира, о движении как всеобщем свойстве сущего, мы не можем избежать употребления такого понятия, как пространство, по той причине, что любое тело, вещь, явление всегда соседствуют с другими предметами и явлениями действительности, обладают протяженностью, т. е. имеют пространственные характеристики.
Пространственные отношения относятся к числу сложных семантических явлений и включают в свое содержание комплекс категориальных сем: предмета, формы, количества и т. д. Так как пространственные отношения соотносятся с самым общим понятием пространства, они также являются наиболее абстрактными и логически самостоятельными по сравнению с наполняющими их субкатегориями локативности, директивности, объемности, протяженности и др.
Семантическая категория локативности в языке представляет собой довольно распространенное явление. Ее тесное взаимодействие с другими категориями закреплено и культурами носителей языков. Финский и эрзянский языки наполнены лексикой с пространственным значением, поэтому категория локативности в данных языках имеет разнообразные средства выражения.
А. В. Бондарко в «Теории функциональной грамматики» дает следующее определение локативности: «Локативность трактуется нами как семантическая категория, представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории пространства, и вместе с тем как ФСП, которое охватывает разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений» [4, с.5].
Локативность представляет собой статический процесс нахождения в определенном месте, или движение, не выходящее за пределы определенного пространства, т. е. движение, не связанное с преодолением пределов некоторого пространства. В ситуациях местонахождения наиболее ярко выражается статичность, которая предполагает «неизменное пространственное расположение предмета по отношению к локуму» [8, с.11]. Главным типом отношений в ситуациях локативности является обозначение протекания событий в пределах какого-либо пространства.
А. А. Абдуллина предлагает следующую классификацию событий, связанных с местонахождением [1, с.43]:
-
1. Местонахождение / пребывание субъекта: Папа был дома.
-
2. Действие субъекта: Он рисовал за огромным деревом.
-
3. Положение субъекта в пространстве: Девочка лежала на кровати.
-
4. Локализация состояния субъекта: Он был счастлив здесь.
-
5. Местонахождение / пребывание объекта: У нее была хорошая квартира в Москве.
-
6. Локализация положения объекта в пространстве: У окна стоял стол.
-
7. Локализация событий / ситуаций в пространстве: Он провел на войне четыре года.
-
8. Функционирование предметов: Дверь закрылась за ней.
-
9. Локализация состояния окружающей среды: По аллеям мела метель.
Использование наречий для выражения локативности связано, прежде всего, с обозначением локализатора. При выражении локализатора наречием особое обозначение локализатора отсутствует. «Локализатор в таком случае подсказывается контекстом или ситуацией [9, с.19]. В. Г. Гак отмечает двоякую функцию наречий места. По мнению исследователя, они уточняют локализацию, выраженную существительным, и локализуют предмет, при отсутствии словесно выраженного локализатора [9, с.23]. Наречие является, таким образом, по сути дела вторичным способом обозначения пространственного отношения. По мнению ученого, они уточняют локализацию, выраженную существительным, и локализуют предмет при отсутствии словесно выраженного локализатора [9, с.23].
В рамках «Теории функциональной грамматики» наречия места разделяются на четыре вида:
-
а) неопределенные наречия, указывающие на всеобщность или неопределенность локализации (везде, нигде, где-то, откуда ни возьмись);
-
б) дейктические наречия, обозначающие место по отношению к участникам коммуникации: здесь, там, туда;
-
в) относительные наречия, обозначающие место по отношению к уже известному объекту или месту: спереди, справа, внизу, в другом месте;
-
г) оценочные наречия, обозначающие расстояние относительно любого объекта: близко, далеко.
Идея статических пространственных отношений находит наиболее эксплицитное выражение, если пространственные наречия сочетаются с глаголами со значением нахождения и положения в пространстве, т. к. глаголы актуализируют сему статического действия, а пространственные наречия обозначают локализатор для этого действия: Кругом лежали игрушки. Однако пространственные наречия могут также сочетаться и с глаголами других семантических групп, таких как глаголы ненаправленного действия, глаголы говорения, глаголы чувственного восприятия и др.: Он уже где-то видел эту женщину. Пространственные наречия могут относиться ко всему высказыванию в целом, не будучи привязанными по смыслу к глаголам: Все здесь было ярче и красивее.
Наречия, функционирующие в качестве обстоятельства места в предложении, могут употребляться в препозиции к глаголу-сказуемому, занимая начальное положение в предложении: Снаружи было холодно и темно.
Пространственные наречия могут использоваться для реализации семы местонахождения без сочетания с глаголами статической семантики.
Наречия места выступают как вторичное средство обозначения пространства в условиях дейксиса [9, с.65]. Неопределенные наречия описывают общие пространственные отношения: статика и ненаправленная динамика: здесь, там, тут, где-то, всюду, везде, повсюду. Особенностью этой группы слов является то, что смысл их становится ясен только при условии присутствия в ситуации, в которой они употребляются, или очень полного ее описания, поскольку они «ориентированы на внеязыковую действительность, отражаемую в содержании высказывания» [6, с.128].
Опираясь на «Теорию функциональной грамматики» А. В. Бондарко, рассмотрим наречия как средства выражения локативности в эрзянском и финском языках на примерах из художественных произведений «Эрзянь цёра» К. Абрамова и «Tulitikkuja lainaamassa» М. Лассила. Проведенный языковой анализ позволил нам выделить четыре группы наиболее частотных наречий, с помощью которых осуществляется реализация категории локативности.
В первую группу вошли неопределённые наречия, указывающие на всеобщность или неопределённость ситуации локализации: фин.: kaikkialla ʻвездеʼ, ei missään ʻнигдеʼ, jossakin ʻгде-тоʼ; эрз.: эрьва косо ʻвездеʼ, косояк ʻнигде, где-нибудьʼ.
-
1. Аламос бу эжнемс косояк , ды косо тесэ эжнят, маласо лавкаяк арась [2, с.38]. – Немного бы погреться где-нибудь , да где здесь погреешься, рядом и магазина нет.
-
2. – Ведь мон аволь косояк ульнинь, скал вешнинь, – кармась витеме прянзо Стёпа [2, с.23]. - Ведь я ни где-нибудь был, корову искал, - стал выкручиваться Стёпа.
-
3. Эрьва косо ашти Митрий, теке мельсэнзэ, мезе теема, косто саема ярмак Стёпань тонавтомс [2, с.24]. – Где бы ни был Митрий, всё одно на уме (его), что делать, откуда взять денег на обучение Стёпы.
-
4. « Jossakin se nyt viipyy, kun ei jo tuo niitä tulitikkuja» antoi Maija Liisa tulla [13, с.38]. - «Он где-то задержался, если не несет до сих пор спичек» - задумчиво сказала Майя-Лииса.
-
5. Asia oli kaikkialla , missa Kukkonen oli sen kertonut... [13, с.79] . - Повсюду , где об этом говорил Кукконен…
Вторую группу составили дейктические наречия, обозначающие место по отношению к участникам коммуникации: фин.: täällä ʻздесьʼ, siellä ʻтамʼ; эрз.: тесэ ʻздесьʼ, тосо ʻтамʼ.
-
1. Тесэ пичетне сэрейть ды видеть, алост модась тинге лангонь кондямо, тезэнь а кассы тикшеяк, сон вельтязь певерезь коське салмукссо ды пиче умарьсэ [2, с.7]. – Здесь сосны высокие и стройные, под ними земля как в огороде, здесь и трава не растёт, она покрыта упавшими сухими иголками и шишками.
-
2. Тосо сынь кортакшность оргодемадо [2, с.207]. – Там они разговаривали о побеге.
-
3. Тесэ кирьпецень покш кудонть икеле зярыя ават микшнесть пси прякинеть, кельме поза ды лембе медь [2, с.30]. – Здесь перед большим домом женщины продавали пирожки, холодный квас и тёплый мёд.
-
4. Siellä se oli Hyvärisen talo, jonne nyt Antti taivalsi [13, с.16]. – Там и находился дом Хювяринена, куда теперь направлялся Антти.
-
5. Eihän me olisi ilman porsasta tiettykään, jotta Kaisa elää täällä [13, с.99]. – Без поросенка мы не узнали бы, что Кайса проживает здесь .
-
6. Ulkona miehet taivastelivat, mitä katua myöten lähteä [13, с.67]. – На улице мужчины остановились в нерешительности, не зная, по какой улице отправиться.
В третью группы мы включили относительные наречия, обозначающие место по отношению к уже известному объекту или месту: фин.: edellä ʻспередиʼ, oikealla ʻсправаʼ, alhaalla ʻвнизуʼ; эрз.: икеле ʻспередиʼ, вить ёно ʻсправаʼ, керш ёно ʻслеваʼ, ало ʻвнизуʼ.
-
1. Вить ёно аштицясь вайгелень нолдазь автизе кургонзо, мейле кортазевсь: «А содасынек, кият тон ломанесь» [2, с.187]. – Сидящий справа, произнеся звук, открыл рот, потом заговорил: «Мы не знаем, кто ты».
-
2. Керш ёно вачказь суликань банкат, эйсэст краскат, ой, лак [2, с.54]. – Слева положены стеклянные банки, в них краска, масло, лак.
-
3. Antti alkoi polvillaan könytä, porsas pyörähteli edessä , poika nauroi ja Antti valitti… [13, с.49]. – Антти пополз на четвереньках. Поросенок увертывался впереди . Мальчишка смеялся, а Антти жалобно сказал...
-
4. Jussi istui oikealla ja he muistelivat matkojaan [13, с.126]. – Юсси сидел справа, и они вспоминали путешествия (их).
-
5. Heikki istui oikealla kyynäspäät polvien nojassa ja ihmetteli… [13, с.17]. – Хейкки сидел справа , опираясь локтями о свои колени и удивлялся...
В четвертую группу были отнесены оценочные наречия, обозначающие расстояние относительно любого объекта: фин.: lähellä ʻблизкоʼ, kaukana ʻдалекоʼ; эрз.: маласо ʻблизкоʼ, васоло ʻдалекоʼ.
-
1. Маря ды Илька аштесть а васоло , вансть, мезе карми тетясь теме [2, с.20]. – Маря и Илька сидели недалеко , смотрели, что будет делать отец.
-
2. Маласо аштиця аванть пелев каясь ансяк вейке варштавкс, сеяк капшазь, кивчкадиця ёндол лацо [2, с.245]. – В сторону рядом находящейся женщины он кинул только один взгляд, и тот быстрый, словно сверкающая молния.
-
3. Старостась эрясь а васоло , кудозо аштесь проулка чиресэ, ульця порядкастонть аламодо удало [2, с.193]. – Староста жил недалеко , его дом стоял на краю проулка, немного дальше улицы.
-
4. Nyt hoksasivat Jussi ja Antti, että Kaisa oli puhunut Partasen kanssa ja että nyt oli hätä kaukana [13, с.104]. – Юсси и Антти смекнули, что это Кайса разговаривала с Партаненом, и что беда от них далека .
-
5. Lähellä seisoi eräs hölmö kaksitoistavuotias poika kädet housuntaskuissa ja katsella töllisteli Liperin miehiä ihmeissään [13, с.48]. – Рядом , держа руки в карманах, стоял какой-то глупый парнишка лет двенадцати и с удивлением глазел на липерских мужиков.
-
6. Hän oli nyt kuin muukalainen kaukana , ja Liperin maitopytyt juohtuivat mieleen [13, с.133]. – Теперь она была далеко как чужеземка, и теперь молочные кадки Липери приходили ей на ум.
На основе нашего исследования можно сделать вывод, что наречие является одним из основных средств выражения категории локативности в эрзянском и финском языках.