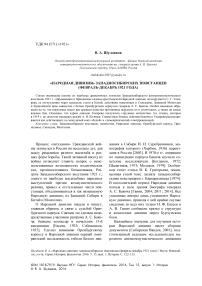"Народная дивизия" западносибирских повстанцев (февраль-декабрь 1921 года)
Автор: Шулдяков Владимир Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из наиболее драматичных эпизодов Западносибирского антикоммунистического восстания 1921 г.: образованию в Приишимье казачье-крестьянской Народной дивизии подхорунжего С. Г. Токарева, ее отступлению через казахские степи в Китай, действиям повстанцев в Синьцзяне, Западной Монголии и Урянхайском крае совместно с белым Оренбургским корпусом генерала А. С. Бакича. Особое внимание обращено на то, что повстанцы много раз срывали попытки противника окружить их и уничтожить, а также на самые важные бои. Показано, что ядром дивизии Токарева послужило «трудовое казачество» тех станиц, которые в 1919 г. не захотели защищать режим А. В. Колчака. Совместные боевые действия Бакича и Токарева рассматриваются как действенный, но запоздалый союз «белой» и «демократической» контрреволюций.
Западно-сибирское восстание, казачество, народная дивизия, оренбургский корпус, приишимье, синьцзян, монголия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219475
IDR: 147219475 | УДК: 94
Текст научной статьи "Народная дивизия" западносибирских повстанцев (февраль-декабрь 1921 года)
Процесс «затухания» Гражданской войны затянулся в России на несколько лет, дав массу рецидивов разного масштаба и разных форм борьбы. Такой затяжной выход из войны позволяет ставить вопрос о неиспользованных возможностях политических сил, противостоявших большевикам. Разгром Западносибирского восстания 1921 г., одного из наиболее масштабных народных выступлений против коммунистического режима, привел к отступлению части повстанцев, объединившихся в так называемую Народную дивизию, из Западной Сибири в Китай и Монголию.
О Народной дивизии писали и пишут, главным образом, в связи с судьбой Оренбургского корпуса. Сначала это сделали непосредственные участники разгрома А. С. Баки-ча: бывшие комиссар и начальник 13-й кавдивизии [Евсеев, 1923; Собенников, 1935]. Уделил внимание Оренбургскому корпусу и Народной дивизии первый эмигрантский исследователь гибели Белого дви- жения в Сибири И. И. Серебренников, монография которого (Харбин, 1936) переиздана в России [2003]. В 1970-е гг. операцию по ликвидации корпуса Бакича изучали советские исследователи [Богданов, 1972; Шалагинов, 1973; Молоков, 1979]. Особняком стоит статья В. К. Григорьева, посвященная узкой теме: захвату западносибирскими повстанцами г. Каркаралинска [1974]. В постсоветский период Народная дивизия попала в поле зрения биографа генерала А. С. Бакича [Ганин, 2004; 2011; 2014]. Все указанные авторы лишь упоминают Народную дивизию, приводя о ней крайне скупые сведения; из всех них только Н. Ф. Евсеев и А. В. Ганин сообщили кратко о структуре и комсоставе дивизии перед Бурчумским боем.
Важнейшее значение для изучения истории Народной дивизии имеет сборник документов [Сибирская Вандея, 2001], подготовленный ведущим исследователем народного антикоммунистического движения
Шулдяков В. А. «Народная дивизия» западносибирских повстанцев (февраль-декабрь 1921 года) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 122–133.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
в Сибири 1919–1922 гг. В. И. Шишкиным. Опубликованные в нем источники позволяют понять процесс зарождения дивизии в ходе Западносибирского восстания, реконструировать оперативную картину и наметить основные вехи реорганизации повстанцев в ходе боев и их отступления в Китай. Однако ни этот фундаментальный сборник, ни работы историков не содержат, например, никаких сведений о том, как Народной дивизии удалось после Каркаралинска прорваться через госграницу.
Во второй половине февраля 1921 г. в долине р. Ишим южнее г. Петропавловска в ходе боев сложилась повстанческая 1-я Сибирская казачья дивизия подхорунжего С. Г. Токарева (1 000–1 500 чел.). Ее ударной силой являлись 1-й и 2-й Сибирские казачьи полки (командиры вахмистр О. П. Зубков и подхорунжий И. Винников). В боях с частями РККА дивизия потерпела ряд жестоких поражений: у станицы Ново-каменской 23 февраля, в районе оз. Оджебай 2 марта, под с. Новоявленное 4 марта. Тем не менее ее ядро смогло избежать уничтожения, отступив от Новоявленного вверх по Ишиму. Пятого марта казачья дивизия находилась в с. Никольское, где вступила во взаимодействие со сводным отрядом крестьян сел Никольское, Новотроицкое и дер. Кубичи (Кубыши) [Сибирская Вандея, 2001. С. 285, 369, 221, 250, 277, 330, 347, 355, 405; Шулдяков, 2004. Кн. 2. С. 205–226].
Другой очаг казачьего повстанчества возник на Пресновской линии бывшего Сибирского казачьего войска. «1-я Народная армия» Пресногорьковского района (до 1,5 тыс. чел.) со штабом в станице Кабанов-ской в отличие от приишимского казачества не успела подняться до уровня организации полков и дивизии. Она не выдержала тяжелейших с переменным успехом боев за с. Баксары (21.02 – 01.03.1921) [Панькин, 2006. С. 209, 211–213]. Ввиду распада отрядов и давления противника повстанцы были вынуждены оставить Пресновскую линию (к 8 марта) 1 и двинулись на юго-восток, по маршруту Троицкий – Спасское – Кубичи, на соединение с 1-й Сибирской казачьей дивизией. Они надеялись на соединение с дивизией Токарева и с «кокчетавскими войсками» и на переход в контрнаступление [Сибирская Вандея, 2001. С. 355].
В начале 10-х чисел марта к 1-й Сибирской казачьей дивизии присоединилась одна из группировок, отступивших с Преснов-ской линии: «Народная армия Михайловского района». Совместное совещание комсостава постановило слить все силы в одну дивизию и тайным голосованием переизбрало «Главный штаб» и командиров частей. Фактически дивизия была переформирована. Она стала состоять из двух полков: конного (командир Погребных) и пехотного (Чушкин), – и пулеметной команды (Семи-доцкий). Начдивом был избран С. Г. Токарев. Дивизия подчинялась «Главному штабу Южной Сибирской народной армии» (нач-штаба О. П. Зубков) [Там же. С. 355, 405]. Правда, в показаниях в плену С. Г. Токарев называл свой отряд того времени бригадой, а себя – комбригом 2. Действительно, двух-полковый состав более соответствует уровню бригады.
В середине марта 1921 г. советское командование попыталось окружить 1-ю Сибирскую казачью дивизию (бригаду) между Пресновской линией и р. Ишим согласованными действиями крупных сил. Но дивизия Токарева с боем вырвалась из окружения в районе станицы Михайловской 3 [Григорьев, 1974. С. 181]. 1-му кавполку 5-й Кубанской кавбригады, действовавшему от железной дороги на юг, около 15 марта удалось нанести тяжелое поражение 1-му Сибирскому казачьему (конному) полку. Но основные силы Токарева отступили в юго-восточном направлении; они обошли 2-й кавполк Кубанской бригады и Отряд особого назначения ВЧК, наступавшие от р. Ишим на запад – северо-запад, а затем оторвались от их преследования [Сибирская Вандея, 2001. С. 411, 425, 445–446].
Дивизия Токарева пришла в с. Корнеев-ское 4. Сюда же из района дер. Кубичи отступила часть сил «1-й Народной армии» Пресногорьковского района под командованием старшего урядника И. И. Дурнева. Бойцы Дурнева влились в казачью дивизию, а сам он был избран командиром 1-го Сибирского казачьего полка («около 400 сабель»). В Корнеевском повстанцы переформировали свою дивизию «по строго армейскому типу». В ней теперь было три полка, несколько отдельных отрядов, комендантских и конвойных команд, хозчасть 5.
Под напором противника 17 марта тока-ревцы перешли из Корнеевского в с. Мали-новское, а 18 марта – в с. Многоцветное 6, создав угрозу тракту Петропавловск – Кок-четав. Штаб Кокчетавской группы РККА немедленно начал выдвигать навстречу им разведки и заслоны. Но к 20 марта дивизия Токарева, пройдя по маршруту Малиновка – Заградовка – Розовка – Кременчугское – Бо-гатыревское, уже пересекла тракт и находилась в 25 км восточнее него: в дер. Сухоти-но. Красные оценивали ее силы в 1 000 чел. пехоты, 500 чел. конницы при трех пулеметах; огнестрельное оружие якобы имела вся конница и до 700 чел. пехоты при 30–50 патронах на ствол.
Красное командование предприняло еще одну попытку окружить и уничтожить тока-ревцев, но те обошли перерезавший им путь батальон Сводного полка, а авангарду преследователей (2-й эскадрон 26-го кавполка, полурота 253-го полка) дали бой и отбросили его. Они в очередной раз прорвались и к исходу 25 марта уже занимали дер. Макин-ская на тракте Кокчетав – Акмолинск, создав угрозу на этот раз Акмолинску [Сибирская Вандея, 2001. С. 446, 453].
20–25 марта где-то в районе Сухотино – Макинская повстанцы провели еще одну реорганизацию: Главный штаб Южной Сибирской народной армии (Южного фронта) упразднили, была «организована дивизия»; начдивом выбрали С. Г. Токарева, а нач-штаба – подъесаула И. З. Сизухина (псевдоним Барбетов) 7. Видимо, тогда, а не позже (в Каркаралинске) окончательно сложилось боевое соединение из казаков и крестьян, вошедшее в историю как «Народная дивизия» или «1-я Сибирская Народная дивизия». Более вероятно, что остатки крестьянских отрядов Курганского, Петропавловского, Ишимского уездов присоединились к казакам в начале отступления в Китай, так как в казахских степях встреча повстанческих отрядов могла быть только случайной. По красным данным, за время следования по Кокчетавскому и Акмолинскому уездам силы Токарева увеличились до 2 500 чел., в том числе около 1 500 чел. конницы. Пехоту, раненых, семьи, запасы повстанцы везли на 700 санях [Григорьев, 1974. С. 182].
Акмолинск был прикрыт красным заслоном, и Токарев от Макинской повел дивизию на юго-восток – на станицу Баян-Ауль-скую Павлодарского уезда. Преследовать ее пытался Акмолинский сводный отряд А. Крокса, но скоро отстал, так как повстанцы забирали свежих лошадей, увозили или уничтожали запасы продовольствия и фуража. Ускользнув на время из поля зрения противника, токаревцы повернули на юг и вместо Баян-Аульской двинулись на Карка-ралинск, уездный город Семипалатинской губернии [Там же. С. 181, 182].
В пути следования части повстанческой дивизии «чередовались, выдвигая то один, то другой полк авангардом и арьергардом». В наступлении на Каркаралинск в авангарде шел 1-й Сибирский казачий полк И. И. Дур-нева. Один выставленный из Каркаралинска заслон: отряд особого назначения И. А. Семененко (70 чел., 1 пулемет), – токаревцы обошли [Там же. С. 184]. Другой, оставленный в с. Бута-гора, полк Дурнева разгромил в бою, зарубив около 50 чел. красных 8.
Вечером 6 апреля 1921 г. дивизия Токарева внезапно без боя заняла Каркаралинск. Конные казаки окружили казарму и разоружили гарнизон (до 50 чел.). Уездные власти, хотя были предупреждены посыльным от Семененко, недооценили скорость движения противника и не приняли меры к обороне. Они лишь успели собрать в «Народном доме» экстренное собрание коммунистов, ответработников и комсостава с целью обсудить положение, чем только облегчили задачу повстанцам. Часть коммунистов была арестована в «Народном доме», а успевшие разбежаться выловлены с помощью населения по городу. Повстанцы перебили в Каркаралинске, по разным данным, от 75 до 123 коммунистов и сочувствующих. Им досталось два пулемета и около 400 винтовок разных систем, в том числе на складах военкомата более 200 трехлинеек и 16– 17 тыс. патронов к ним [Сибирская Вандея, 2001. С. 481–482; Григорьев, 1974. С. 182– 186 , 189].
8 СГА КНБ РК ПГА. Д. 013004. Л. 5 об., 7.
За шесть суток стоянки в Каркаралинске повстанцы «снабдили себя оружием» 9, отдохнули, заменили санный обоз на колесный и, по данным В. К. Григорьева, провели очередную реорганизацию. О структуре Народной дивизии после Каркаралинска данных нет. Красные упоминали лишь дивизионы Кожедубова и Ланцева непонятной подчиненности. Начдив и начштаба остались прежние: С. Г. Токарев и И. З. Сизухин (Барбетов) [Сибирская Вандея, 2001. С. 480– 481; Григорьев, 1974. С. 186].
Между тем во время следования Народной дивизии от Каркаралинска до китайской границы красные сводки и приказы называли ее только так: «банда есаула Гноевых» 10. В дивизии Гноевых сначала был адъютантом начдива Токарева [Сибирская Вандея, 2001. С. 405], а затем стал командовать одним из отрядов (или полком). Предположительно это был бывший подъесаул А. А. Гноевых, служивший до восстания командиром конского запаса в Исилькуле. При кратковременном захвате Исилькуля повстанцами он был у них «начальником вооруженных сил Исилькульского района» (17.02.1921), а после быстрого разгрома этого очага восстания бежал 11 (наверное, в приишимские станицы, так как родом он был из казаков станицы Петропавловской). Известности Гноевых, вероятно, способствовало то, что он был повстанческим комендантом Карка-ралинска 12. Возможно также, что его отряд при оставлении Каркаралинска шел в арьергарде и вступал в боевое соприкосновение с преследователями.
Пока повстанцы приходили в себя в Кар-каралинске, севернее него накапливались красные. К Семененко подошли Акмолинский (А. Крокса) и Баян-Аульский отряды. Образовавшийся сводный отряд Крокса (до 800 чел.) получил приказание «энергичным ударом занять г. Каркаралинск» 14 апреля. Но 12 апреля Народная дивизия незаметно для противника оставила Каркаралинск и двинулась на юго-восток – на г. Сергиополь Семиреченской области. Обнаружив уход повстанцев 13-го и заняв 14-го город, отряд Крокса начал преследование. Токаревцы попытались оторваться от него, резко изменив направление, и перешли с Сергиополь-ской дороги на тракт Каркаралинск – Семипалатинск. Но обмануть Крокса не удалось. Двадцать второго апреля восточнее аула Нуксумбай, в 160 км от Каркаралинска, его конная разведка настигла арьергард Народной дивизии и преследовала его 15 км, взяв в плен шесть повстанцев. Теперь красные оценивали силы дивизии в 2 000–3 000 чел., в том числе до 700 конных при трех пулеметах и обозе в 600–800 подвод. Большой разброс был в оценке количества винтовок: от 600 до 1 500 штук. Но однозначно – патронов было мало. Преследовавший Крокс имел 550 штыков, 70 сабель, шесть пулеметов 13 [Сибирская Вандея, 2001. С. 479, 481; Григорьев, 1974. С. 186].
Утром 23 апреля 1921 г. Крокс настиг противника у р. Ащу-су (около 200 км юго-восточнее Каркаралинска). Прижатая к разлившейся реке Народная дивизия была вынуждена сопротивляться. В ходе четырехчасового боя Токарев ввел в дело все свои силы. В финале повстанцы контратакой рассекли и опрокинули фронт противника. Красные потеряли более 300 чел., канцелярию штаба сводного отряда и один пулемет. Оставшиеся от отряда Крокса три группы бежали в разных направлениях 14 [Григорьев, 1974. С. 186]. Победители порубили пленных. На судебном процессе 1925 г. над И. И. Дурневым утверждалось, что в самом бою «в горах около Каркаралинска» и в ходе расправы после его окончания повстанцы уничтожили «в общей сложности 360 красноармейцев» 15. После этого боя о преследовании со стороны Каркаралинска не могло быть речи.
Дивизии предстояло выйти на тракт Семипалатинск – Сергиополь. Советское командование двинуло на нее от Семипалатинска 76-й кавполк 13-й кавдивизии, которому была поставлена задача войти в соприкосновение с «бандой», не выпуская из-под удара, отбросить ее на Сергиополь-ский отряд РККА и уничтожить 16. Но повстанцы, избегая боя, проскочили Сергио-польский тракт. 76-й кавполк пошел по пятам и 5 мая 1921 г. в 25 км юго-восточнее горы Кусмурун настиг их. Токарев ввел в дело до 800 чел. конницы и до двух рот пехоты при четырех пулеметах. Бой, в котором повстанцы проявили «значительное упорство и активность», шел семь часов и кончился их победой. Глубоким обходом в тыл противника они заставили 76-й кавполк отступить к горе Кусмурун (60–70 км юго-западнее Кокпектинска), а сами продолжили движение на юго-восток 17.
Народная дивизия начала обходить с юга г. Кокпектинск. Красные решили перехватить ей путь между оз. Зайсан и пограничным хребтом Тарбагатай, для чего на линию пикет Базарский (80 км юго-восточнее Кок-пектинска) – Базарский волостной дом – урочище Уйчилик (50–60 км юго-западнее пикета Базарского) стягивались подразделения 261-го, 359-го стрелковых и Коммунистического полков под общим командованием комполка-261 Верещагина. Заслон должен был задержать повстанцев и постараться отбросить их на возобновивший преследование 76-й кавполк, подкрепленный эскадронами 73-го кавполка 18. Но пехота заслона не успела собраться, а главное – то-каревцы обошли линию ее развертывания с юга. Восьмого мая они переправились через р. Тебезге возле аула Аленбек, в 8 км юго-западнее урочища Уйчилик. От Аленбека оставалось всего 35–40 км до пограничного перевала Хабарасу 19.
Все переброски войск из г. Зайсана и Семиречья к Хабарасу сильно запоздали. Повстанцы сняли заставу 349-го стрелкового полка на перевале и открыли себе путь в Китай 20. Но переправа через Хабарасу требовала времени, и Народная дивизия выставила на господствующих высотах заслон. Девятого мая в 8.30 утра подоспевший 76-й кавполк завязал бой. По свидетельству комполка-76 Трофимова, противник «яростно оборонялся». Упорный бой длился девять часов. И только обеспечив переправу всех обозов, арьергард токаревцев стал медленно, «задерживаясь на сопках» и сопротивляясь, отходить на перевал. Границу он перешел вечером 9 мая: около 20 часов 21.
В пересекшей границу Народной дивизии было около 2 000 чел. и 700 подвод
[Померанцев, 1923. С. 92]. Она оказалась примерно в 70 км северо-восточнее г. Чугу-чак, центра Тарбагатайского округа провинции Синьцзян. Разведка, высланная дивизией, нашла на р. Эмиль, в 40 км юго-восточнее Чугучака, лагерь Оренбургского корпуса генерала А. С. Бакича, интернированного китайцами в 1920 г. [Камский, 1923. С. 62, 63]. Бакич и Токарев обменялись делегациями, решив вопрос о соединении [Богданов, 1972. С. 149; Ганин, 2011. С. 247]. «Постояв на границе» и переведя дух, Народная дивизия двинулась к Чугучаку. Навстречу ей вышли и перегородили путь два китайских отряда [Камский, 1923. С. 63; Богданов, 1972. С. 150]. У Чугучака дивизия сдала китайцам, по одним данным, 700–800 винтовок 22, по другим – 400, но совсем без патронов [Богданов, 1972. С. 150]. Лучшее оружие, а также боеприпасы повстанцы спрятали в обозах. Китайские власти предложили дивизии пройти вглубь Китая, но «большая часть» токаревцев самовольно двинулась на присоединение к Бакичу. Китайские войска якобы расступились. Народная дивизия обошла Чугучак и к Эмильско-му лагерю явилась, имея в своем составе около 1 700 чел. (в том числе до 1 200 бойцов), сохранивших на вооружении более 700 винтовок и четыре пулемета [Серебренников, 2003. С. 141; Григорьев, 1974. С. 187; Молоков, 1979. С. 11]. Токаревцы присоединились к Бакичу, по одним данным, 14-го 23, по другим – 16 мая 1921 г. [Богданов, 1972. С. 150]
Соединение произошло не без шероховатостей. Имевшие лозунг «За советы без коммунистов», повстанцы были для белых «чем-то вроде эсеров». И красный флаг Народной дивизии сначала поверг штаб Оренбургского корпуса «в большое смущение» [Камский, 1923. С. 63]. Но политический компромисс состоялся, и в качестве «1-й Сибирской дивизии» повстанцы вошли в состав Оренбургского корпуса [Ганин, 2004. С. 144]. В обиходе их стали называть «народниками» [Петров, 2003. С. 312]. За боевые отличия Бакич произвел в полковники Токарева, Сизухина (Барбетова) 24, Дурне-ва 25 и, возможно, Гноевых. Вооружение Народной дивизии, чтобы о нем не узнали китайцы, «перепрятано было по разным частям» корпуса. Но патронов дивизия привезла мало [Ганин, 2011. С. 248].
Угроза прорыва западносибирских повстанцев в Китай ускорила сближение позиций советских и китайских властей. 30 апреля 1921 г. в с. Бахты Семиреченской области Представительство ВЦИК при РВС Туркестанского фронта заключило договор, по которому китайские власти обязались выдать в РСФСР всех интернированных в 1920 г. белых чинов. В начале мая 1921 г. коммунисты договорились о выдаче им китайцами повстанческого отряда есаула Д. Я. Шишкина, интернированного в Синьцзяне осенью 1920 г.
Бакич, узнав о советско-китайских договоренностях, объявил Эмильский лагерь на военном положении [Богданов, 1972. С. 149–150]. Токаревцы прекрасно знали о массовых казнях красными восставших, как активные повстанцы они не рассчитывали на пощаду и сами никого не щадили. «Народники» еще не остыли от похода и боев (а у них были и удачные операции), были уверены в антинародном характере и внутренней слабости советского режима, мечтали о своем возвращении на Родину с оружием в руках. «Настроение токаревцев было весьма воинственное», – вспоминал очевидец [Камский, 1923. С. 64]. Была выдвинута идея занять Чугучак, чтобы овладеть вооружением, сданным белыми при интернировании в 1920 г. [Ганин, 2004. С. 145] Согласно показаниям бывшей любовницы Бакича А. Н. Ишимовой, слышавшей разговоры в штабе корпуса, Народная дивизия намеревалась сделать «недельный отдых», а затем напасть на Чугучак, захватить там оружие и «потом идти на Бахты и Зайсан» [Ганин, 2011. С. 248]. Утром 23 мая Оренбургский корпус разоружил китайскую охрану Эмильского лагеря и двинулся на Чугучак [Богданов, 1972. С. 151]. Если считать днем прихода токаревцев к Бакичу 16 мая, то корпус выступил с р. Эмиль на Чугучак ровно через неделю после воссоединения.
Наступление Бакича запоздало. Между военным губернатором Тарбагатайского округа и уполномоченным командования Туркестанского фронта был заключен новый договор (Бахты, 17.05.1921), на этот раз о совместной ликвидации «белогвардейских отрядов Новикова и Бакича» [Документы внешней политики…, 1960. С. 788] (Нови- ков – это, вероятно, псевдоним Гноевых). Согласно договору, 23 мая в 23 ч через китайскую границу перешел Сводный отряд частей Туркестанского фронта [Богданов, 1972. С. 151], имевший задачу окружить и уничтожить противника в районе Эмильско-го лагеря. Началась Чугучакская операция советских и китайских войск 26. Штаб Оренбургского корпуса знал о предстоящем вступлении красных в Синьцзян, так как слухи об этом в том же Чугучаке распространились за несколько дней до начала операции. Упредить, захватить оружие было заманчиво, но не вышло [Серебренников, 2003. С. 142; Камский, 1923. С. 64, 65].
Поняв, что не успевает захватить Чугу-чак, чтобы не оказаться в ловушке, Бакич повернул резко на юг, занял г. Дурбуль-джин, разгромив его китайский гарнизон, затем пошел на г. Чумпазы [Богданов, 1972. С. 151]. На третьем переходе от Эмильского лагеря Бакич выделил боевой арьергард, так как на хвост колонны стали наседать красные и китайцы [Серебренников, 2003. С. 142]. У Бакича из 8 500 чел. бойцов с оружием было менее одной тысячи [Ганин, 2004. С. 145]. Народная дивизия была самой боеспособной и лучше всех вооруженной частью, и при отступлении Оренбургского корпуса из района Чугучака «замыкали движение народники» [Петров, 2003. С. 316]. Возможно, что арьергардом бакичевцев командовал Гноевых, который был убит как раз во время похода от р. Эмиль к Шара-Сумэ [Шалагинов, 1973. С. 96]. Красные оценивали арьергард противника в триста сабель 27.
Сводный отряд Туркфронта упустил противника. Наперерез Бакичу из Зайсанского уезда срочно двинули части Семипалатинской группы РККА, которым было приказано занять перевал Орлыгун-даба у р. Кобук и преградить «банде Гноевых и Бакича» путь на восток 28. К перевалу успели прийти 2-й батальон и полковые команды 261-го полка, 8-я рота 349-го полка и небольшая часть 76-го кавполка 29. Красные заняли идеальную позицию на высотах при выходе из ущелья к р. Кобук и успели окопаться. Для изможденных, мучимых жаждой и голодом бакичевцев это была западня. Тяже- лейшей победой 3 июня 1921 г. на перевале Орлыгун-даба Оренбургский корпус открыл себе путь на восток и окончательно сорвал Чугучакскую операцию противника [Серебренников, 2003. С. 143–145; Богданов, 1972. С. 152–153]. Согласно данным красных, они потеряли в том «ожесточенном пятичасовом бою» 126 чел. Были убиты командир 261-го полка Верещагин и военком 76-го кавполка Артецкий 30.
Оперируя против китайских войск, Оренбургский корпус занял 2 июля крепость Ша-ра-Сумэ (г. Тулта) на р. Кран – центр Алтайского (Шарасумэского) округа Синьцзяна, а 6 июля – г. Бурчум, западнее Шара-Сумэ. Корпус взял у китайцев 6 орудий, 12 пулеметов, 400 винтовок [Евсеев, 1923. С. 24; Молоков, 1979. С. 12]. В Шара-Сумэ среди белых и повстанцев пошли разговоры о походе в Россию, к чему склонялись «почти все, а особенно солдаты Народной дивизии» [Серебренников, 2003. С. 149].
Во время мирной передышки в Алтайском округе Бакич реорганизовал 1-ю Сибирскую (Народную) дивизию. Известны ее структура, комсостав и общая численность к началу сентября 1921 г. Начдив – полковник С. Г. Токарев. Его заместитель – полковник Васильев. Начштаба дивизии – полковник И. З. Сизухин (Барбетов). Дивизия состояла из следующих частей: 1-го Сибирского казачьего полка (командир полковник Могиленский, или Могилев), 2-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеевича полка (есаул, или полковник, Погребных), 3-го (Смирнов) и 4-го (подъесаул Афанасьев) пехотных полков, дивизионной пулеметной команды (5 пулеметов), конвойной команды. В Народной дивизии было до 1 200 чел., «хорошо вооруженных» [Евсеев, 1923. С. 28; Ганин, 2004. С. 198]. Всего в корпусе Бакича на 5 260–6 160 воинских чинов приходилось 4 исправных орудия, 12 пулеметов, около 1 500 винтовок, 2 500 шашек и пик [Евсеев, 1923. С. 28; Молоков, 1979. С. 19–20].
В конце июля Бакич перебросил Народную дивизию в район г. Бурчума [Богданов, 1972. С. 154]. К сентябрю 1921 г. с приданными двумя офицерскими сотнями оренбуржцев и батареей (всего около 1 000 чел., 2 орудия, 5 пулеметов) дивизия занимала этот город, имея задачу вести разведку в сторону границы и в случае наступления красных оборонять линию рек Черный Иртыш и Бурчум (правый приток Черного Иртыша) [Евсеев, 1923. С. 29].
Двадцать девятого августа Сводный отряд 13-й кавдивизии РККА (1 350 сабель, 4 орудия, 32 пулемета), выступив из Зайсан-ского уезда, приступил к операции по уничтожению корпуса Бакича. Действуя стремительно, движением правой, меньшей, колонны, вышедшей утром 1 сентября к г. Бурчум и через р. Черный Иртыш завязавшей перестрелку с бакичевцами, красные отвлекли внимание противника. Отвлекли настолько, что белые приняли этот маневр за главный удар. Тем временем левая, основная, колонна Сводного отряда (900 сабель, 24 пулемета, 4 орудия), шедшая по другому, северному, берегу Черного Иртыша, спокойно переправилась через р. Бур-чум в 25 км к северо-востоку от г. Бурчум и зашла Народной дивизии во фланг и тыл. Замысел красных был раскрыт поздно, и переброска с Черного Иртыша на северовосточное направление 1-го и 2-го Сибирских казачьих полков и одной Офицерской сотни была запоздалым решением.
Внезапной атакой казачья лава едва не прорвала боевой порядок на стыке развернувшихся 73-го и 74-го кавполков. Но красные отбили атаку шквальным огнем 4 пулеметов пулеметной команды 73-го кавполка и ввели в дело резерв. Затем 74-й кавполк стремительно контратаковал и, дойдя до рубки, опрокинул казаков. В это время один эскадрон правой колонны красных переправился через Черный Иртыш у г. Бурчум, что грозило Народной дивизии полным окружением. Сибиряки и оренбуржцы кинулись спасаться вдоль Черного Иртыша, в сторону Шара-Сумэ 31 [Евсеев, 1923. С. 34–35; Со-бенников, 1935. С. 57–58; Богданов, 1972. С. 160, 164; Молоков, 1979. С. 25–38].
В Бурчумском бою 1 сентября 1921 г. то-каревцы и бакичевцы понесли большие потери. Были брошены оба орудия. Красные считали, что из всей Бурчумской группировки белых в сторону Шара-Сумэ смогли прорваться лишь 100–150 чел. 32 Отсюда делался вывод, что Народная дивизия «перестала существовать» [Богданов, 1972.
-
С. 164]. В действительности основные силы дивизии смогли отступить на Шара-Сумэ [Петров, 2003. С. 321].
А. В. Ганин, изобразивший Оренбургский корпус исключительно как страждущую и гонимую сторону, не только игнорирует данные и позицию своего предшественника М. А. Богданова, но и неправильно интерпретирует некоторые используемые им самим источники. Он не видит наступательных движений белых и «народников» ни в мае 1921 г. у Чугучака, ни в сентябре на подступах к Шара-Сумэ. Даже в цитируемом им самим приказе Бакича от 4 сентября 1921 г. о переходе в контрнаступление историк усматривает лишь агитационный ход. Между тем в этом приказе недвусмысленно говорилось: «Отступления быть не может. Только вперед, хотя бы это и стоило нам оставления всего, что не может пробиться сквозь расположения красных» [Ганин, 2004. С. 163].
Шестого сентября на р. Темерчек (8 км южнее Шара-Сумэ) Бакич попытался переломить ситуацию. Открыв сильный ружейно-пулеметный огонь, белые в конном и пешем строю атаковали. Это была «бешеная атака Народной дивизии» [Носков, 1930. С. 50], моментально опрокинувшая головной 73-й кавполк. Его командир Максимов был убит, полк стал отступать. Несколько конных казачьих сотен бросились развивать успех, однако были остановлены огнем вражеского пулемета. Тем временем подоспели свежие силы красных с артиллерией, и «не поддержанные вовремя другими частями народники вынуждены [были] отойти». Сызранская стрелковая дивизия вместо того, чтобы помочь Народной дивизии, «сдалась в плен в полном составе, без выстрела». С артподдержкой красная кавалерия повела энергичное наступление. Героический натиск Народной дивизии дал белым возможность эвакуировать Шара-Сумэ 33 [Носков, 1930. С. 50; Собенников, 1935. С. 57–59; Петров, 2003. С. 319, 321].
Главной причиной разгрома «народников» и всего корпуса Бакича стало подавляющее превосходство красных в вооружении и боеприпасах. Сказалось и плохое физическое и морально-психологическое состояние, обусловленное ранее перенесенными испытаниями, хроническим недоеда- нием, болезнями. Как раз в то время у белых случилась вспышка желудочных заболеваний. Район Шара-Сумэ не мог их прокормить. Мучимые голодом чины Оренбургского корпуса «паслись на полях, употребляя в пищу незрелый колос пшеницы и овса». В результате «начались ужасные поносы», нередко со смертельным исходом [Петров, 2003. С. 319; Шалагинов, 1973. С. 123].
Несмотря на разгром Оренбургского корпуса, его ядро через перевалы Монгольского Алтая ушло в Западную Монголию. При отступлении от Шара-Сумэ полковник С. Г. Токарев вел одну из двух походных колонн корпуса 34. Очевидно, в составе этой колонны была и его Народная дивизия, сохранившая к тому времени в своих рядах около 500 чел. [Григорьев, 1974. С. 188; Ганин, 2004. С. 164].
«Пикачи» из Народной дивизии сыграли заметную роль в рукопашных схватках во время ночного штурма 21 сентября монастыря Саруль-Гун [Байкалов, 1932. С. 31]. После неудачи этого штурма начался распад Народной дивизии.
Совместно с Оренбургским корпусом монастырь Саруль-Гун осаждал «Сводный русско-инородческий отряд войск ГорноАлтайской области» есаула А. П. Кайгоро-дова. Кайгородов 22 сентября отделился от Бакича и самостоятельно направился в Горный Алтай. С ним ушли две сотни из состава Народной дивизии [Серебренников, 2003. С. 133]. Большинство бойцов этого отряда после поражения у с. Кош-Агач (27.09.1921) ушло, с разрешения командира, в Северный Китай. Но некоторые из «народников» все-таки проникли с Кайгородовым в Горный Алтай. Среди сотенных командиров его партизанского отряда фигурировал в 1921– 1922 гг. подъесаул Погребных [Денчик, Мо-доров, 2009. С. 30], очевидно, из сибирских казаков Народной дивизии. В январе 1922 г. Кайгородов переименовал русскую часть своих партизан в 1-й полк 2-й Народной дивизии [Мамет, 1994. С. 118], подчеркнув связь своего отряда с 1-й Сибирской Народной дивизией.
Другая часть «народников» оставалась с Бакичем. После жестокого поражения в районе Хонур-Улена (26.10.1921) от Оренбургского корпуса откололись «остатки Народной дивизии» и «двинулись по направ- лению к русской границе, на север» [Серебренников, 2003. С. 152], вероятно, сдаваться.
Небольшая часть западносибирских повстанцев была в Урянхайском походе остатков Оренбургского корпуса, а некоторые оставались с Бакичем до самого конца. Бывший начштаба Народной дивизии Сизу-хин сдался красным вместе с корпусным обозом в Урянхае (10.12.1921), а начдив Токарев еще позже – в г. Улангоме 35, видимо, вместе с самим Бакичем. Токарев и Сизухин на процессе над Бакичем (Новониколаевск, 25.05.1922) проявили «наибольшее упорство в своих убеждениях» [Ганин, 2004. С. 173] и были расстреляны вместе с ним 17 июня 1922 г. [Ганин, 2014. С. 58].
Народная дивизия проявила исключительное упорство и живучесть. Успешность ее похода в Синьцзян во многом объясняется тем, что сибирские казаки прекрасно знали условия передвижения и выживания в степи. Казаки Петропавловского уезда ходили степью на срочную службу в Семиречье и обратно, а казаки Каркаралинской станицы, частью присоединившиеся к дивизии, хорошо знали пути на Чугучак. Руководители повстанцев, имея богатейший опыт конной службы и участия в Первой мировой и Гражданской войнах, благодаря искусному маневрированию и знанию местности многократно выводили свою дивизию из-под ударов и из оперативного окружения.
В сибирских восстаниях 1920 г. просматривается организационный импульс со стороны белого подполья [Шулдяков, 2010. С. 279–282]. Так, командующий «крестьянской и казачьей армией» в Славгородско-Иртышском районе подъесаул Д. Я. Шишкин был специально оставлен колчаковцами для работы в тылу противника [Посадсков, 2014. C. 93]. Западносибирское восстание представляется в целом стихийным, с самыми разнородными политическими лозунгами. В нем была и реставрационно-монархическая струя, о чем красноречиво свидетельствует надпись на знамени одного из крестьянских отрядов Тюменской губернии: «С нами Бог и царь Михаил II» [Сибирская Вандея, 2001. С. 687]. Однако основная масса восставших шла под красным знаменем и лозунгом «За советы без коммунистов!».
Зачинателями 1-й Сибирской казачьей дивизии стали восставшие Боголюбовская, Вознесенская, Надеждинская станицы, которые в 1919 г. не захотели защищать режим А. В. Колчака [Шулдяков, 2007. С. 163–166]. Создатель 1-го Сибирского казачьего полка, некоторое время начдив [Сибирская Вандея, 2001. С. 369], а затем начальник Главного штаба Южного фронта 36 О. П. Зубков, один из активистов «трудового казачества», при белых был арестован в своей Боголюбов-ской станице за «большевизм и сочувствие советской власти» (18.05.1919) 37 и в августе 1919 г. находился под стражей 38. Начальник Народной дивизии С. Г. Токарев весной 1918 г. был председателем Екатерининского станичного исполкома, а осенью 1919 г. за участие в бунте 4-го Сибирского казачьего полка сидел два с половиной месяца под арестом 39. Начштаба дивизии И. З. Сизухин весной 1917 г. был товарищем председателя дивизионного комитета Сибирской казачьей дивизии 40, а при «первой советской власти» – председателем Кокчетавского станичного исполкома 41.
Перелом, произошедший в течение 1920 г. в настроениях народной массы и вызванный практикой военного коммунизма, привел к тому, что, оказавшись в Синьцзяне, вожди повстанцев быстро нашли общий язык с белогвардейцем генералом А. С. Бакичем. Со своей стороны, чтобы закрепить военный союз с «народниками», штаб Оренбургского корпуса также пошел на уступки и принял компромиссные политическую программу и символику, вплоть до красных знамен с трехцветным, русских цветов, прямоугольником в верхнем углу у древка [Ганин, 2004. С. 144]. Этот компромисс был вынужденным, однако создавал принципиально новое качество отношений, в которых был не только голый расчет, но и доля искренности. Начштаба Оренбургского корпуса генерал-майор И. И. Смольнин-Терванд, составивший «Программу власти для России», говорил, что его окрылила «стихия крестьянских мятежей», благодаря чему родилась идея «поднять всех» [Шалагинов, 1973. С. 119– 120]. Похожая «демократическая програм- ма» «с социалистическим привкусом» была выдвинута тогда и в отряде А. П. Кайгоро-дова [Серебренников, 2003. С. 138].
В 1918–1919 гг. стойкие рабоче-крестьянские части типа Ижевской дивизии и Златоустовско-Красноуфимской бригады дала белым не Сибирь, а Урал и Приуралье. Сибирское же крестьянство было тогда к белым равнодушно, а местами и враждебно [Симонов, 2010. С. 387]. В итоге, не имея опыта сравнения двух диктатур, крестьянство и частично казачество Западной Сибири своевременно не поддержали колчаковский режим. В 1921 г. боевой союз Бакича и Токарева был реален, действенен, более того, «народники» обычно выступали в качестве ударной силы Оренбургского корпуса. Этот союз «белой» и «демократической» контрреволюций слишком запоздал и уже не имел перспектив. Однако его идейная и психологическая основы, несомненно, интересны и требуют дальнейшего изучения и осмысления.
Список литературы "Народная дивизия" западносибирских повстанцев (февраль-декабрь 1921 года)
- Байкалов К. К. Разгром банды Кайгородова (Западная Монголия): Воспоминания начальника экспедиционного отряда. М.; Иркутск, 1932. 44 с.
- Богданов М. А. Разгром белогвардейского корпуса генерала Бакича в 1921 году//Учен. зап. Вопр. истории СССР. Ульяновск, 1972. Т. 24, вып. 4. С. 134-179.
- Ганин А. В. Урянхайский поход Бакича//Родина. 2014. № 7. С. 52-58.
- Ганин А. В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М.: Русский путь, 2004. 240 с.
- Ганин А. В. «Я Бога молил о том, чтобы скорей тебя увидеть». Последний роман генерала Бакича в документах//Черногорцы в России. М., 2011. С. 239-268.
- Григорьев В. К. О Каркаралинской трагедии: Из истории Каркаралинской партийной организации//Вопр. истории КПСС. АлмаАта, 1974. Вып. 2. С. 180-190.
- Денчик С. В., Модоров Н. С. К вопросу о гражданском противостоянии в Горном Алтае в 1921-1922 гг. и его участниках//Мир Евразии. Горно-Алтайск, 2009. № 3 (6). С. 28-30.
- Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 4. 812 с.
- Евсеев Н. Ф. Разгром генерала Бакича//Красная Армия Сибири. Новониколаевск, 1923. № 5/6. С. 23-39.
- Камский. Русские белогвардейцы в Китае. М.: Красная Новь, Главполитпросвет, 1923. 68 с.
- Мамет Л. П. Ойротия: Очерк национально-освободительного движения и гражданской войны на Горном Алтае (2-я половина XIX -1-я четверть XX в.). Горно-Алтайск: Изд-во «Ак-Чечек», 1994. 182 с.
- Молоков И. Е. Разгром Бакича. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 64 с. Носков К. Авантюра, или Черный для русских белых в Монголии 1921-й год. Харбин, 1930. 77 с.
- Панькин С. И. Первая «Народная армия» Пресногорьковского района в 1921 г. /Крестьянство восточных регионов России и Казахстана в революциях и гражданской войне (1905-1921 гг.). Ишим, 2006. С. 207-215.
- Петров В. И. Мятежное «сердце» Азии: Синьцзян: краткая история народных движений и воспоминания. М.: Изд-во «Крафт+», 2003. 528 с.
- Померанцев П. Красная Армия Сибири на внутреннем фронте: борьба с восстаниями в тылу за 1920-1922 гг.//Красная Армия Сибири. Новониколаевск, 1923. № 3/4. С. 84-95.
- Посадсков А. Л. «Осведказак» и его начальник полковник Ф. И. Поротиков: к истории издательской работы в белой армии Сибири (1919-1920 гг.)//Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 3. С. 90-94.
- Серебренников И. И. Гражданская война в России: Великий отход. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. 695 с.
- Сибирская Вандея: Документы/Сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. М.: МФД, 2001. Т. 2: 1920-1921. 776 с.
- Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 1918 г. Новосибирск, 2010. 610 с.
- Собенников П. П. Ликвидация Бакича//Красная конница. М., 1935. № 2. С. 51-58.
- Шалагинов В. К. Последние. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. 144 с.
- Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. Кн. 2: 1920-1922. 607 с.
- Шулдяков В. А. Командующий «крестьянской и казачьей армией» есаул Д. Я. Шишкин: к истории повстанчества 1920 года//1920 год в судьбах России и мира: апофеоз Гражданской войны в России и ее воздействие на международные отношения. Архангельск, 2010. С. 279-282.
- Шулдяков В. А. Преступление и наказание «трудового казачества» в годы Гражданской войны//Сибирь в период Гражданской войны. Кемерово, 2007. С. 163-166.