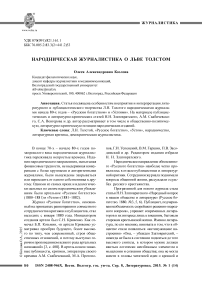Народническая журналистика о Льве Толстом
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям восприятия и интерпретации литературного и публицистического творчества Л.Н. Толстого народническими журналами начала 80-х годов - «Русским богатством» и «Устоями». На материале публицистических и литературно-критических статей Н.Н. Златовратского, А.М. Скабичевского, С.А. Венгерова и др. автор рассматривает в том числе и общественно-политическую, литературно-критическую позиции народнических изданий.
Л.н. толстой, "русское богатство", "устои", народничество, литературная критика, демократическая журналистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14975294
IDR: 14975294 | УДК: 070(091):821.161.1
Текст научной статьи Народническая журналистика о Льве Толстом
В конце 70-х – начале 80-х годов позапрошлого века народническая журналистика переживала непростые времена. Издания народнического направления, испытывая финансовые трудности, не выдерживая конкуренции с более крупными и авторитетными журналами, были вынуждены закрываться или переходить от одного собственника к другому. Одними из самых ярких и идеологически цельных по своим народническим убеждениям были артельное «Русское богатство» (1880–1881) и «Устои» (1881–1882).
Журнал «Русское богатство», основанный на принципах равноправия и совместного сотрудничества критиков и публицистов, стал выходить с января 1880 года. Инициатором создания артели был С.Н. Кривенко. Как отмечал Б.П. Козьмин, «в артели Кривенко усматривал прообраз будущего, более высокого по типу, чем современный, строя общественных отношений, и потому выступал горячим проповедником всякого рода артельных начинаний» [3, с. 408]. В артель вошли знаковые публицисты, критики, литераторы своего времени А.М. Скабичевский, М.А. Протопо- пов, Г.И. Успенский, В.М. Гаршин, П.В. Засо-димский и др. Редактором издания избрали Н. Н. Златовратского.
Народническое направление обновленного «Русского богатства» наиболее четко проявлялось в отделе публицистики и литературной критики. Сотрудники журнала поднимали вопросы общинной жизни, рассуждали о судьбах русского крестьянства.
Программной для нового журнала стала статья Н.Н. Златовратского «Народный вопрос в нашем обществе и литературе» (Русское богатство. 1880. №3, 5, 6). Публицист, подчеркивая необходимость скорейшего решения «народного вопроса», упрекает современных литераторов в их интересе лишь к внешним, бытовым сторонам крестьянской жизни. Именно литература, по его мнению, виновата в том, что в обществе стали появляться «антимужицкие настроения» «Она, – убежден Златовратский, – никогда не была в состоянии подняться до того высокого синтеза, в котором мужик должен явиться логически неизбежным элементом в мышлении и сознании общества; она не могла внести в головы читателей идеи о кровной и неразрывной связи того и другого: она трактовала мужика по большей части только как «податную единицу», надельную душу, или, если и силилась говорить вообще о мужицкой душе, то в таких общих, славянофильско-туманных и бессодержательных фразах, что в уме читателя мужик опять-таки оставался чем-то посторонним, требующим постоянного гуманного сочувствия и содействия – и только» (Русское богатство. 1880. № 3. 2-я паг. С. 27). Одной из задач «Русского богатства» Златовратский считал исследование народных идеалов, «душевных переживаний», крестьянских мыслей и чувств. «Мы постараемся сделать мужика таким же интересным для наших читателей, как интересен он для нас», – заявил публицист (Русское богатство. 1880. № 3. 2-я паг. С. 26).
Одно из концептуальных положений, высказанное Златовратским в статье, касалось миссии интеллигенции в деле народничества. «…Никогда ей (интеллигенции. – О. К.) не сделать ничего для «народного вопроса», пока она не решит прежде всего свой вопрос, вопрос интеллигенции, вопрос о правах ума и образования, пока не вооружится она орудиями, соответствующими той великой задаче, какую она хочет поднять» (Русское богатство. 1880. № 3. 2-я паг. С. 19). Для того, чтобы «образованный класс» смог последовательно выполнить свое предназначение (сотрудники журнала видели его в достижении «слияния» идеалов и интересов интеллигенции с общинными интересами и идеалами простого народа. – О. К.) необходимо, с точки зрения Златовратского, добиться для него политических свобод и прав [2, с. 156].
Общественно-политические взгляды сотрудников народнического издания находили отражение и в литературно-критических публикациях. С этих позиций оценивались все литературные явления, в том числе произведения Л.Н. Толстого. В первом же номере «Русского богатства» была опубликована статья А.М. Скабичевского «Разлад художника и мыслителя» (Русское богатство. 1880. № 1), посвященная «Анне Карениной».
Критик и ранее обращался к творчеству Толстого. Еще в 1872 году в «Отечественных записках» он разместил статью «Граф Лев Толстой как художник и мыслитель» (Отечественные записки. 1872. № 8, 9). Рассматривая «Войну и мир», он не стремился противопоставить
Толстого-художника Толстому-мыслителю. Скабичевского волновало отрицательное, с его точки зрения, влияние мистицизма и фатализма писателя на его художественное творчество в целом. В «Русском богатстве» при оценке «Анны Карениной» критик, напротив, настаивает на «разладе», существующем между художником и мыслителем. «Я не помню другого такого произведения, – пишет он, – в котором художник находился бы в подобном же антагонизме с мыслителем, как роман гр. Л. Толстого… Мыслитель говорит одно, а художник представляет вам совсем другое, мыслитель требует, чтобы художник так вот и так иллюстрировал его идею, а художник берет, да и мажет кистью перед вами совершенно наперекор мыслителю. Но, так как художник в тысячу раз и сильнее, и правдивее мыслителя, то он его кладет в лоск» (Русское богатство. № 1. 2-я паг. С. 3). Доказывая свой тезис, Скабичевский предлагает сопоставить сначала «что хотел сказать нам автор, как мыслитель», а потом «посмотреть, что сказал он нам, как художник».
Во взглядах писателя, по словам Скабичевского, преобладает «московско-культурный абсентеизм на подкладке славянофильства», мистицизм и «туманное» народолюбство. Вся суть романа «Анны Каренина», убежден критик, состоит в том, что единственное спасение для русского человека – «быть самим собой, жить бесхитростно и непосредственно, как создала его природа, твердо держась основных культурных начал» (Русское богатство. № 1. 2-я паг. С. 4). Это возможно только в случае мужика-крестьянина или в случае столбового дворянина-помещика, всю жизнь занимающегося сельским хозяйством в своем имении. Как только человек отходит от своей культурной почвы, «таинственные силы Провидения» вооружаются против него «своим страшным гневом». Вот то, что хотел сказать Толстой-мыслитель, Толстой же художник, уверен Скабичевский, «пошел своей дорогой» и привел читателя к совершенно иным выводам, диаметрально противоположным основной мысли романа. Так, благодаря стараниям художника «лучшие представители своей среды, оказываются вдруг чуть что не хуже худших», а эти самые худшие вызывают сочувствие и жалость. Например, Константина Левина Толстой-мыслитель преподносит как «положительный тип для примера и поучения», а Толстой-художник, в свою очередь, рисует «жалкое ничтожество и никуда негодную тряпку»: «легковесная увлекаемость каждым минутным влиянием и отсутствие всякого упорства в преследуемой цели» (Русское богатство. № 1. 2-я паг. С. 23).
Больше симпатии у Скабичевского вызывают типы Карениной и Вронского: «…Люди, способные с такой непосредственной полнотой отдаться любви, с не меньшей цельностью пожертвовали бы собою и всякой другой, более высокой страсти, если бы они могли увлечься ею при иных условиях жизни и среды» (Русское богатство. № 1. 2-я паг. С. 22).
Трактовка «Анны Карениной», предложенная Скабичевским на страницах «Русского богатства», по замечанию Н. А. Горбанева, «не была поддержана другими представителями народнической критики 70–80-х годов: одними – в силу очевидного упрощения проблемы, другими – из-за критического отношения к отдельным утопическим сторонам мировоззрения писателя» [1, с. 11].
Силу художественного таланта Толстого признавал и М.А. Протопопов. Анализируя повести В. Крестовского (Н. Д. Хвощинской-Зайончковской), литературный критик «Русского богатства» между прочим замечает: «На его палитре (Крестовского. – О. К.), говоря фигурально, нет таких ярких красок, какие имеются у графа Толстого» (Русское богатство. № 3. 2-я паг. С. 2).
В марте 1881 года из-за крайне затруднительной финансовой ситуации и ряда других причин литературная артель «Русского богатства» распалась, таким образом, издание просуществовало около полутора лет [3, с. 409–412]. За относительно недолгий период существования творчеству Толстого в журнале была посвящена лишь статья Скабичевского, которая интересна не столько для характеристики позиции издания, сколько для выявления эволюции взглядов самого критика, все более склонявшегося к народнической эстетической доктрине.
После фактического распада артели «Русского богатства» попытку выпускать на тех же началах новое издание предпринял историк литературы и литературный критик С.А. Венгеров. В декабре 1881 года вышел первый номер журнала «Устои».
В «объяснительной записке», поданной Венгеровым при прошении разрешить выпускать свой журнал, он подробно изложил программу будущего издания. Главная задача, стоящая перед нынешним поколением народников, видится Венгерову в тщательном изучении «народной души», народных интересов, стремлений, желаний. На смену западническому и славянофильскому направлениям общественной мысли, которые, по его мнению, слишком поверхностно смотрели на народ, – приходит «новое направление», лишенное «утопий и фантазий», придерживающееся фактов реальной действительности [4, с. 151].
К сотрудничеству Венгеров пригласил бульшую часть публицистов и литераторов «Русского богатства». Вместе с редакционным коллективом издание приобрело характерные черты народнической прессы. «Не высказывая деталей своей программы, – писал С. Н. Кривенко во «Внутреннем обозрении» журнала, – мы, однако, очень определенно высказываемся за народническое направление, за сочувствие всему тому, что клонится к народной пользе» (Устои. 1882. № 2. 2-я паг. С. 149).
Опираясь на специфику «нового направления», Венгеров формулировал в своих статьях основные задачи беллетристики и литературной критики. Еще в журнале «Слово», он опубликовал статью «На смену. Беллетристы-дебютанты» (Слово. 1880. № 1, 2-3), где обстоятельно доказывал необходимость замены «публицистической» критики «синтетическим» методом. Цель критики, убежден автор, сводится к простой констатации разных направлений и течений литературного творчества, а не к «чтению писателям морали» (Слово. 1880. № 2-3. 2-я паг. С. 107). О том же говорит и Скабичевский в первом номере «Устоев», подчеркивая, что тенденциозная критика и беллетристика «отжили вместе с философскими 60ми годами» (Устои. 1882. № 1. 2-я паг. С. 93).
В рецензии на «Деревенские будни» Зла-товратского (Устои. 1882. № 3-4) Венгеров обращает внимание на то, что изображением народной жизни занято уже третье поколение отечественных беллетристов. Но, к сожалению критика, к подлинному знанию мыслей и чувств простого крестьянина литература нисколько не приблизилась.
К первому поколению Венгеров относит «колоссов художества» – И.С. Тургенева,
Л.Н. Толстого, А.Ф. Писемского. В сравнении с ними беллетристы 60–70-х годов «таланты менее крупные», однако, они «таланты более ценные». «Прежние писатели, – размышляет Венгеров, – задавшись благородной и высокой целью отыскать в мужике человека, проглядели в нем мужика… Эти художники сочиняли и исторические народные эпопеи, и современные романы, дали нам массу мужицких фигур… Но все эти фигуры есть типы, преломившиеся через дилетантски барскую наблюдательность, с ее непониманием тех сторон народной жизни, которые не имеют себе аналогии в жизни интеллигентных классов» (Устои. 1882. № 3-4. 2-я паг. С. 131, 133). С точки зрения Венгерова, современные писатели-народники – Г. Успенский, Н. Златов-ратский, Н. Наумов – «совсем приблизились к полному воспроизведению народной жизни», к «точному воспроизведению всех крестьянских мелочей». Главная их черта и она же их достоинство – осознание «почвы, на которой стоит простой народ», понимание того, что крестьяне – «мирские, общинные люди», что все они «родятся, живут и умирают в своеобразных условиях общинного быта» (Устои. 1882. № 3-4. 2-я паг. С. 131, 133).
Преимущества общинного землевладения как наиболее совершенной формы устройства крестьянской жизни были очевидны для редакции «Устоев». Именно община, по мысли сотрудников нового народнического издания, способствует формированию в крестьянах высоких нравственных качеств, отличающих их от других классов общества. При этом народ в «Устоях» не идеализируется. Показателен очерк Я. Абрамова «В степи» (1882. № 1). Автор, устами своего героя, с горечью и разочарованием говорит о проникновении в деревню «духа коммерции», искажающего все крестьянские обычаи и привычки, уничтожающего типичный уклад жизни, деревенские «устои». Мужики любым путем стремятся получить «копейку». Венгеров проводит очевидную параллель с очерком Г. Успенского «Малые ребята» (цикл «Из памятной книжки»), опубликованным в нескольких номерах «Отечественных записках» за 1880 год. Повествуя о неудачном опыте господина Полумракова, приехавшего в деревню «набираться нравственности» от простых кресть- ян, а в результате, жестоко в них разочаровавшись, Успенский, однако, не спешит делать пессимистических выводов: нельзя смиряться и, подобно Полумракову, опускать руки. Задача «образованного человека», по его мнению, «идти к народу»: «не все у народа заимствовать, …надо и для него поработать». Тем более, что общество, проявляя полнейшее безразличие к нелегкой судьбе деревни, само подтолкнуло крестьян к «холодному, бесчеловечному взгляду на людские отношения» (Устои. 1882. № 3-4. 2-я паг. С. 22).
Скабичевский, публиковавшийся в «Устоях» под псевдонимом «Алкандров», вспоминал, что когда-то со страниц «Отечественных записок», он резко критиковал Г. Успенского за его разоблачительные очерки и жесткие оценки крестьянской жизни. Теперь же он и сам видит, как сильно «расшатались деревенские устои»: «Я не отрицаю существования у нас очень твердых и незыблемых устоев, не надо и говорить о том, что устои эти следует искать в народе, в смысле массы крестьян-земледельцев, которыми все держится на Руси и на которых, как на столбах гранитных, держится и сама Русь. Но нельзя в то же время упускать из внимания, что и в народе замечается в свою очередь хаотическое брожение, исхода которого никто не может предвидеть. Не доказывают ли нам все наши лучшие исследователи народного быта, – продолжает Скабичевский, – что патриархальной общине грозит распадение, новая община на рациональных началах находится в состоянии, совершенно еще не определившемся; семейный быт распадается; религиозные верования представляют новое и сложное явление целого ряда сек-таторских движений; одна часть народа бросает землю и бежит в города, наполняя их массами городского пролетариата, другая часть готова сейчас же забрать весь свой скарб и, покинув родные пепелища, идти за тридевять земель искать благодатных стран с медовыми реками и кисельными берегами» (Устои. 1882. № 1. 2-я паг. С. 77–78).
Скабичевский опубликовал в «Устоях» целую серию литературно-критических статей «Жизнь в литературе и литература в жизни». Современная литература, считает критик, глубоко специфична. На содержание, на эстетику литературных произведений серьезно повлияли «хаос» и «исключительная динамика»
жизни. В результате беллетристика 80-х годов приобретает публицистический характер. Эту тенденцию Скабичевский замечает в том числе и у «наиболее выдающихся и руководящих талантов, каковы – гр. Л. Толстой, Салтыков, Гл. Успенский». Если раньше литераторы имели дело с «явлениями установившимися», «хорошо всем известными», то современный беллетрист оказался куда в более сложном положении: «Он постоянно имеет дело с такими новыми и неведомыми явлениями, которые не только читателю неизвестны, но и для самого его представляют ряд загадок. Вследствие этого он пребывает в непрестанном страхе, что его не поймут или не поверят ему; для него недостаточно лишь показывать, а необходимо, кроме того, разъяснять. В то же время, он не только изображает, а изучает предметы, о которых пишет… Иной раз, – заключает критик «Устоев», – произведение, вместо того, чтобы давать вам какие-либо положительные ответы, является наполненным одними вопросительными знаками» (Устои. 1882. № 1. 2-я паг. С. 80).
По мнению Скабичевского, настолько же «смутен», «неопределен» в современной литературе и тип «положительного героя времени». Отдельные его черты можно встретить в рассказах беллетристов-народников 80-х годов – Г. Успенского, Златовратского, – однако «полного образа наша литература еще не представила». Автор вообще сомневается, возможно ли в настоящее время выполнение «этой важной и трудной задачи» (Устои. 1882. № 6. 2-я паг. С. 67).
Неопределенность, неустойчивость в русской общественной жизни конца XIX века, поиски «прочного живого идеала» обусловили массовое обращение представителей нового поколения к «христианским проповедям» современных философов – Вл. Соловьева и Л. Толстого. «Дело в том, – поясняет Минский в статье «Новое слово» г. Соловьева», – что душа русской молодежи в последнее время вконец истомилась, истосковалась и, как манны небесной, жаждет обобщающего слова. Идеалы шестидесятых годов оказались узкими, идеалы семидесятых годов – практически почему-то неосновательными, и вот молодежь с горьким тяжелым опытом двух поколений на душе стала на распутье и ждет нового слова, и ищет новых путей. Для молодежи, и вместе с тем для всего нашего развития, настал критический момент, имеющий глубокое значение… Настоящее поколение, нуждается в слове, которое бы обобщило дело в идеале, который бы упорядочил и осветил нашу деятельность, в руководителях, которые бы шли вперед» (Устои. 1882. № 2. 2-я паг. С. 137). Однако такими «руководителями», по убеждению редакции, не способны быть ни Соловьев, ни Толстой. Их «проповеди» может и «трогают душу», но не предлагают решений наболевших вопросов и проблем.
Признавая, что Толстой «целой головой поднимается над нашими моралистами и художниками», Минский с искренним сожалением вспоминает неудачные попытки яснополянского просветителя, «переодевшегося в крестьянское платье и с Евангелием за пазухой», найти правду. «Тут, – пишет он, – чувствуешь биение пульса иной правды, не выдуманной, а настоящей, животрепещущей, начинающейся с нужного конца… Но при всем том на мучительные вопросы современной тоскующей души речь гр. Толстого не дает ответов» (Устои. 1882. № 2. 2-я паг. С. 146). Писатель призывает работать на людей и с этим никто не спорит. «Но как работать? А если те, на которых работаешь, почему-либо отвергают тебя и твою работу?», – с горечью спрашивает публицист-народник.
Публицисты и критики журнала «Устоев», как и сотрудники других народнических изданий, считали, что «образованной» части общества по силам вывести крестьянскую массу из критического положения. Однако в отличие от представителей радикального «Дела», призывавших «цивилизованное меньшинство» во что бы то ни стало вести за собой «нецивилизованное большинство», Венгеров и его сотоварищи прекрасно осознавали, что главная «беда народничества» в том, что простой народ «не понимает интеллигенцию, сторонится ее» (Устои. 1882. № 9-10. 2-я паг. С. 89).
Общее упадническое настроение редакционного коллектива «Устоев» можно почувствовать, прочитав последние строки статьи Минского: «…Всего и свету, что надежда; но ведь ею сыт не будешь; за одну только ее и цепляешься, вися над бездной; благодаря только ей, тоска в отчаяние не переходит. Но тоски надеждой не перешибешь…» (Устои. 1882. № 2. 2-я паг. С. 147).
В результате цензурных придирок и крайне тяжелого материального положения редакция «Устоев», едва дотянув до конца подписного 1882-го года, вынуждена была прекратить выпуск журнала.
История журнала «Устои» – его литературно-критическая и литературно-эстетическая позиции, общественные взгляды сотрудников, проблематика публицистических статей – наглядно демонстрирует один из самых непростых этапов развития народнической идеологии: пессимистические настроения, понимание иллюзорности политических надежд, возлагаемых на крестьянство. Публицисты-народники 80-х годов уже не видели в Толстом, в его философских воззрениях потенциальной угрозы. Создавая «красивые, благородные теории христианской любви», писатель не на словах, на деле пытался помочь простому народу. Однако автор «Войны и мира», как и сами народники, оказался не в силах ответить на животрепещущие вопросы современности. Предлагаемые им смирение и всепрощение, с точки зрения редакции, представляли тупиковый путь решения наболевших общественных проблем (Устои. 1882. № 2. 2-я паг. С. 146–147).
И «Русское богатство», и «Устои» являли собой определенные этапы эволюции взглядов и стремлений представителей литературного народничества. Непростыми обстоятельствами общественной ситуации были обусловлены и те нечастые обращения к творчеству именитого писателя. Критики и публицисты народни- ческих изданий (учитывая, что основной состав сотрудников рассматриваемых журналов был практически одним и тем же), нисколько не сомневались в мастерстве и художественном таланте Толстого, тем не менее, признавали за его произведениями лишь историческое значение. Ведущая роль в литературном процессе 80-х годов, по их твердому убеждению, безоговорочно принадлежала писателям «нового поколения», выросшим в народной среде, знающим стремления и желания простого народа. Теории христианской любви и всепрощения, разрабатываемые Толстым, как в художественных, так и в публицистических произведениях, также не нашли сочувствия у представителей народнической журналистики 80-х годов.
Список литературы Народническая журналистика о Льве Толстом
- Горбанев, Н. А. Лев Толстой -художник и мыслитель в литературной критике ХIХ-ХХ веков/Н.А. Горбанев. -Махачкала: Изд-во ДГУ, 1983. -78 с.
- Козлова, О. А. Личность и творчество Льва Толстого в оценке демократической журналистики 70-80-х годов XIX века: дис.. канд. филол. наук/О.А. Козлова. -Волгоград, 2004. -215 с.
- Козьмин, Б. П. Из истории революционной мысли в России: Избр. труды/Б.П. Козьмин. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -767 с.
- Переселенков, С. К истории журнала «Устои»/С. Переселенков//Современник. 1923. № 2. -С. 151-159.