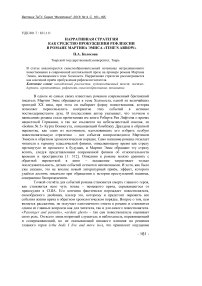Нарративная стратегия как средство пробуждения рефлексии в романе Мартина Эмиса "Time's arrow"
Автор: Колосова Полина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется смыслообразовательный потенциал нетрадиционного повествования в современной англоязычной прозе на примере романа Мартина Эмиса, посвященного теме Холокоста. Нарративная стратегия рассматривается как ключевой приём пробуждения рефлексии читателя.
Ненадёжный рассказчик, художественный текст, постмодернизм, герменевтика, рефлексия, смыслообразование, понимание
Короткий адрес: https://sciup.org/146281309
IDR: 146281309 | УДК: 801.7
Текст научной статьи Нарративная стратегия как средство пробуждения рефлексии в романе Мартина Эмиса "Time's arrow"
В одном из самых своих известных романов современный британский писатель Мартин Эмис обращается к теме Холокоста, одной из величайших трагедий XX века, при этом он выбирает форму повествования, которая позволяет переосмыслить восприятие этих событий в истинно постмодернистском духе. В послесловии автор указывает, что толчком к написанию романа стала прочитанная им книга Роберта Рея Лифтона о врачах нацистской Германии, а так же ссылается на небезызвестный пассаж, из «Бойни № 5» Курта Воннегута, описывающий бомбёжку Дрездена в обратной перемотке, как один из источников, вдохновивших его избрать особую повествовательную стратегию – все события воспроизводятся Мартином Эмисом в обратном хронологическом порядке. Само название романа отсылает читателя к термину классической физики, описывающему время как стрелу протянутую из прошлого в будущее, и Мартин Эмис обращает эту стрелу вспять, следуя представлениям современной физики об относительности времени и пространства [1: 312]. Описания в романе можно сравнить с обратной перемоткой в кино – искажение затрагивает только последовательность, детали событий остаются неизменными. И хотя, как было уже сказано, это не вполне новый литературный приём, эффект, которого удаётся достичь писателю при обращении к истории преступлений нацизма, совершенно беспрецедентен.
Точкой отсчёта для событий романа становится смерть главного героя, как становится ясно чуть позже – немецкого врача, скрывавшегося от правосудия в США. Его кончина фактически порождает повествователя, своеобразного двойника, альтер эго, которому и предстоит пережить все события жизни врача в обратном хронологическом порядке. Вопрос о том, кем является рассказчик, не получает однозначного ответа в романе и становится одним из главных вопросов как для читателя, так и для самого повествователя. «Passenger and parasite», «ardent ghost» – так сам повествователь оценивает свою роль. Он всего лишь незримый слушатель и наблюдатель, переживающий и сопереживающий, но не оказывающий никакого влияния на решения главного героя («the body I live and move in»), что привносит ощущение предопределённости событий. При этом соотношение между личностями героя и повествователя не вполне понятно читателю - порой повествователь полностью идентифицирует себя со своим «носителем», используя личные местоимения первого лица как множественного, так единственного числа, но чаще он дистанцируется от него, говоря о нём в третьем лице.
Рассказчик, не имея доступа к мыслям и памяти своего «носителя» и не имея ни малейшего представления об истории, вынужден самостоятельно оценивать происходящее. Однако, поскольку он переживает события в обратном порядке, оценки, которые он им даёт не вполне объективны и адекватны. При этом подобное положение вещей озадачивает самого повествователя. Так, в начале романа он вопрошает: Why am I walking backward into the house? Wait. Is it dusk coming, or is it dawn? What is the - what is the sequence of the journey I'm on? What are its rules? Why are the birds singing so strangely? Where am I heading?
Почти сразу становится очевидно, что читатель имеет дело с формой повествования далёкой от традиционной. Иными словами, можно говорить о том, что Мартин Эмис выбирает стратегию «ненадёжный рассказчик», нарушающую классические нормы литературного повествования, предполагающие абсолютный авторитет нарратора в глазах читателя и его правдивость по отношению к нему [2: 158–159]. При этом положение читателя двойственно.
С одной стороны, читатель оказывается в ситуации смысловой и когнитивной неопределённости - из-за того, что события излагаются в обратной хронологической последовательности, читатель вынужден даже сюжет восстанавливать, прикладывая дополнительные усилия. Картина мира, которую предлагает рассказчик, представляется намерено искажённой, поэтому при чтении романа читателю приходится выработать особые стратегии, на что указывает исследователь творчества Мартина Эмиса, Д. Дидрик [4: 86]. Так, к примеру, читатель романа вынужден читать все диалоги с конца, поскольку иначе восстановить их суть крайне сложно. К тому же, даже самые простые физиологические процессы, которые описываются Эмисом в малейших подробностях, и бытовые действия главного героя и окружающих его людей в обратной перемотке получают совершенно новое прочтение. Так, американское хобби главного героя - садоводство -превращается из созидательного процесса в процесс постепенного, планомерного разорения и разрушения, а работники коммунальных служб приезжают ночью, чтобы оставить мусор на улицах города. Это порождает особый юмор и комизм, который, однако, как отмечают некоторые критики, несколько однообразен и быстро приедается, а так же делает сюжет предсказуемым [6]. Другие упрекают автора за неуместность и цинизм такого рода иронии в произведении о Холокосте [5: 86].
С другой стороны, читатель обладает определёнными преимуществами перед повествователем. Имея даже базовые представления о современной истории, при рефлективном чтении он очень скоро понимает, о каком периоде идёт речь, и начинает догадываться об истинной личности врача Тода Френдли и причинах его странного порой поведения. Таким образом, читатель в отличие от нарратора может продуктивно выстраивать свои ожидания на основе событийной картины, которую ему удаётся восстановить со слов рассказчика, и своих знаний об истории.
Ненадёжного рассказчика, с которым мы имеем дело, вполне можно считать наивным, потому что ему по какой-то причине так и не удаётся понять, что события происходят с ним в обратном порядке, в отличие от читателя, который довольно быстро улавливает структуру и принцип изложения и то, как повествование соотносится с действительностью. Вместо этого повествователь старается найти смысл и логику в происходящих событиях, как они представлены ему, полагая, что разгадка ждёт его впереди, то есть в прошлом главного героя: How many times have I asked myself: when is the world going to start making sense? Yet the answer is out there. It is rushing toward me over the uneven ground.
Так, критик Джон Маллан отмечает, что язык, которым говорит с нами повествователь, изобилует клише и шаблонными фразами ( «no bowl of cherries», «swings and roundabouts», «head over heels», «flattering to deceive», «like a house on fire» ) , и связывает это с его попытками осмыслить очень уж непривычную действительность при помощи более чем привычных языковых форм [6].
Единственное знание, которого не лишён рассказчик - вполне традиционное понимание жизненных реалий. Также можно сказать, что он обладает базовыми гуманистическими ценностями, которые позволяют ему выносить оценки действиям главного героя. В некоторых моментах, например, в суждениях об отношениях с женщинами читатель скорее придерживается точки зрения повествователя. Он предстаёт более понимающим, мягким и добродушным, чем сам главный герой, поэтому читатель склонен рассматривать его как своеобразную примитивную совесть или даже душу героя (на это указывает и сам автор в одном из интервью [3: 146]). В романе есть эпизоды, в которых рассказчик открыто осуждает действия своего альтер эго, опять же не идентифицируя себя с ним. Примером может послужить неправильно истолкованная нарратором сцена посещения церкви:
Tod goes to church and everything. He trudges along there on a Sunday, in hat, tie, dark suit. The forgiving look you get from everybody on the way in—Tod seems to need it, the social reassurance. We sit in lines and worship a corpse. But it's clear what Tod's after. Christ, he's so shameless. He always takes a really big bill from the bowl.
В некоторых ситуациях желания нарратора и главного героя не совпадают, но первый при всём своём несогласии всё же склонен полагаться на правильность суждений второго, как, например, в следующем эпизоде, описывающем бегство из Германии в конце войны:
Personally I longed for human society and for exercise (a good long tramp, for example), but no doubt Odilo had his reasons. Had his reasons for those weeks spent in hayloft and cowshed under a mound of blankets with nothing to do but pray and shiver.
Несмотря на полное отсутствие памяти, повествователь наделён некой формой бессознательного. Так, он питает необъяснимую неприязнь к врачам и всей их деятельности и заявляет об этом с самых первых строк : How I hate doctors. Any doctors. All doctors.
Более того, его преследуют навязчивые кошмары, в которых он видит мужчину в белом халате и чёрных сапогах. Сам род занятий главного героя в
Америке получает однозначную негативную оценку, связанную в первую очередь с искаженной перспективой нарратора : Put simply, the hospital is an atrocity-producing situation. Atrocity will follow atrocity, unstoppably.
С точки зрения повествователя, врачи причиняют страдания и калечат здоровых людей. Именно в этот момент нарратор чувствует наибольшее отчуждение и дистанцируется от главного героя : I’m glad it's not my body that is actually touching their bodies. I’m glad I have his body, in between. But how I wish I had a body of my own, one that did my bidding .
И, напротив, наибольшее единение с ним повествователь испытывает во время работы в лагере смерти в Биркенау (Аушвице), где по ужасной иронии для него, наконец, всё обретает смысл: The world, after all, here in Auschwitz, has a new habit. It makes sense.
Нарратор видит своё истинное предназначение в возрождении евреев к жизни и их воссоединении с близкими, а также чудесном исцелении – именно так выглядит деятельность главного героя, доктора в концентрационном лагере в обратной перемотке. Повествователь в своём детском простодушии и человеколюбии не подозревает о том, как на самом деле обстоит дело:
I am childless; but the Jews are my children and I love them as a parent should, which is to say that I don’t love them for their qualities (remarkable as these seem to me to be, naturally), and only wish them to exist, and to flourish, and to have their right to life and love.
Сама стратегия повествования, избранная автором, делает возможным представить читателю крайне детализированные изображения зверств нацистских врачей без обычного в таких случаях морализаторства. Они выносятся на суд читателя, поскольку неадекватность оценок нарратора совершенно очевидна. После того, как война заканчивается, и главный герой покидает берега Вислы и устремляется к более раннему периоду своей биографии, для повествователя жизнь снова утрачивает смысл: For a while it worked (there was redemption); and while it worked he and I were one, on the banks of the Vistula.
Роман М. Эмиса изобилует символами, которые также обращаются к читательской рефлексии. Одним из наиболее ярких является имя главного героя, которое в силу обстоятельств, меняется несколько раз в течение повествования. На первых страницах мы знакомимся с одиноким стариком по имени Tod Friendly, производящим впечатление мирного обывателя, доживающего жизнь в американском захолустье, что находит отражение в его фамилии, если перевести её с английского. Он стар и немощен, поэтому и читатель, и повествователь склонны ему сочувствовать. Однако, имя старика в контексте романа приобретает особый смысл – с немецкого «Tod» переводится как «смерть», что может быть истолковано как ключ к тому, что читатель узнает о герое и его деятельности позднее. По мере того, как герой молодеет, ему становится сложнее скрываться и ему приходится сменить имя. Он получает документы на имя c прозрачной символичностью – John Young. В Европе герой получает своё первое, настоящее и самое символичное имя – Odilo Unverdorben. «Unverdorben» в переводе с немецкого означает «непорочный, неиспорченный». Именно так выглядит герой романа глазами рассказчика – он не повинен ни в чём. Насколько он сам раскаивается в содеянном читателю трудно судить.
Таким образом, «Time’s Arrow» – произведение сложное для понимания и, прежде всего, за счёт своеобразной повествовательной стратегии. Читатель испытывает трудности на уровне когнитивного понимания, поскольку ему приходится восстанавливать реальную цепочку событий, обращаясь к своему знанию истории и опыту. Более того, оценку событий с точки зрения морали и нравственности читателю тоже предлагается осуществить самостоятельно, что достаточно непривычно для романа на тему Холокоста, где, казалось бы, все оценки предопределены и уже вынесены самой историей. Первоначально повествователь симпатичен читателю своей наивностью и добродушием, но его видение и оценка искажены временной перспективой. В результате, читатель и повествователь фактически оценивают разные события, по крайней мере, так это выглядит – точка зрения решает всё. При этом, рассказчик, проживающий жизнь главного героя «наоборот», привносит гнетущее ощущение предопределённости событий, горькую иллюзию их обратимости, а также размывает границы между прошлым и настоящим.
Список литературы Нарративная стратегия как средство пробуждения рефлексии в романе Мартина Эмиса "Time's arrow"
- Новикова В.Г. Пространство времени в романе Мартина Эмиса «Стрела времени, или природа преступления»//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. №3 (1) С. 312-316
- Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. University of Chicago Press, 1961. 455 p.
- DeCurtis A. Britain's Maverics//Harper's Bazaar Nov. 1991. P. 146-147.
- Diedrick D. Understanding Martin Amis. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1995. 229 р.
- Leutgeb K. Cynicism as an Ethic and Aesthetic Principle. A study of Martin Amis`s Fiction. Vienna, 2001. 350 р.
- Mullan J.Time's Arrow by Martin Amis . URL: https://www.theguardian.com/books/2010/jan/16/times-arrow-guardian-book-club