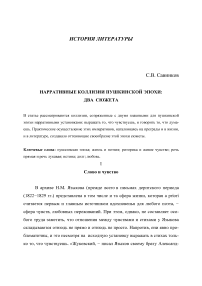Нарративные коллизии пушкинской эпохи: два сюжета
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. История литературы
Статья в выпуске: 3 (14), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются коллизии, сопряженные с двумя знаковыми для пушкинской эпохи нарративными установками: выражать то, что чувствуешь, и говорить то, что думаешь. Практическое осуществление этих императивов, наталкиваясь на преграды и в жизни, и в литературе, создавало оттеняющие своеобразие этой эпохи сюжеты.
Пушкинская эпоха, жизнь и поэзия, риторика и живое чувство, речь прямая и речь лукавая, истина, долг, любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/14914238
IDR: 14914238
Текст научной статьи Нарративные коллизии пушкинской эпохи: два сюжета
I
Слово и чувство
В архиве Н.М. Языкова (прежде всего в письмах дерптского периода (1822-1829 гг.) представлена в том числе и та сфера жизни, которая a priori считается первым и главным источником вдохновенья для любого поэта, -сфера чувств, любовных переживаний. При этом, однако, не составляет особого труда заметить, что отношения между чувствами и стихами у Языкова складываются отнюдь не прямо и отнюдь не просто. Напротив, они явно проблематичны, и это несмотря на исходную установку выражать в стихах только то, что чувствуешь. «Жуковский, - писал Языков своему брату Александ- ру, - советовал мне никогда не описывать того, чего не чувствую или не чувствовал: он почитает это главным недостатком новейших наших поэтов … уверяю тебя, что не изменю предыдущему замечанию Жуковского». Сам же Языков подобного рода сочинения (в которых описывается то, что не чувствуется) называл «беглою поэзиею»: «в них все чужое – слова, выражения и мысли» 1.
А между тем, такой способ выражения в эпохи риторические (оформляющие чувства в некие готовые, ритуализованные формулы и стилистические штампы) представляется «узаконенным» и едва ли не единственно возможным. Романтизм, как известно, внедрил и «узаконил» свою риторику чувствований, которая в силу своей условности вскоре перестала восприниматься как нечто истинное. К примеру, «Ответ на вызов написать стихи» Дениса Давыдова – реакция на такую поэтическую искусственность:
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И, любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?
По кадансу кто вздыхает,
Кто любовь в цветущий век
Лишь на стопы размеряет, Тот прежалкий человек! 2
В то же время брат поэта, Александр Михайлович, наблюдая за поэтическими опытами дерптского студента, предлагает ему попробовать стихо-творствовать о любви. Его взгляды на этот «предмет» противоположны давыдовским: для того, чтобы писать о любви, вовсе не обязательно любить. «...Я хорошо делал, – отвечает ему Языков, – что не следовал твоему предложению сихотворствовать о любви. Впрочем, может быть, скоро буду писать стихи, вдохновенные этой поэзией жизни»3; «Ты удивляешься, почему Дерптские красавицы не возбудили во мне ни одной страстной пьесы? Итак, вот тебе новое доказательство свободы моего сердца: ежели влюблюсь, то, вероятно, это будет иметь влияние на мои стихи: но покуда еще не испытал ни наслаждений, ни печалей любовных, то не хочу притворяться любовником: ибо притворство было бы слишком явно, а это особливо в стихах худо, несносно – не так ли?»4.
Однако следовать этой программе для Языкова оказалось делом далеко не простым. На это было несколько причин.
Языков очень рано уверился в том, что он избранник Божий, Поэт, которому предписано судьбой «блистать на поприще Парнасских состязаний»5: «Я скорее брошу в жизни все, что можно бросить, чем стихи... И неужели славолюбие, благороднейшая из страстей человеческих, не должно занимать надежду того, кто уже чувствует, что может быть достойным славы?»6. Однако юноше-поэту суждено тревожить слабые сердца и сбирать нищенские длани до тех пор, «Пока в душе его желанья / Мелькают, темные, как сон, / И твердый глас самосознанья / Не возвестил ему, кто он »7. Но для того чтобы возвестить, гласу требуются определенные подготовительные условия. «Мне надо, – пишет Языков своим обоим братьям, – теперь непременно иметь перед глазами что-нибудь божественное, чтобы не писать общих мест, а его нет...»8. А когда его нет – нет и истинной поэзии. Отсутствие возвышенного предмета ввергает Языкова в уныние, которое он стихотворно изливает в жалобах на свое безрадостное настоящее .
Не то, не то в душе моей,
Что восхитительно и мило,
Что сердце юноше сулило
Для головы и для очей:
Болезнь встревоженного духа
Мне дум высоких не дает, И, как сибирская пищуха, Моя поэзия поет9.
Но вот, казалось, вопрос о «возвышенном предмете» готов был разрешиться. На роль «звезды любви и вдохновений» Языковым была выбрана Александра Андреевна Воейкова, можно сказать, еще до ее приезда в Дерпт. «Она, – сообщает он брату, – скоро сюда будет, я опишу ее тебе с ног до головы; говорят, что всякий, кто ее видел хоть раз вблизи, непременно в нее влюбляется. Ежели надо мной исполнится это прорицание, то ты увидишь такую перемену моего духа только из слога моих писем, а не иначе: смотри же, смотри в оба»10. Когда же Воейкова, наконец, появилась, то превзошла все его ожидания: «...это такая женщина, какой я до Дерпта не видывал; прекрасно образована, а лицо - какого должно искать с фонарем между потомками ребра адамова»11. В дальнейшем Языков сообщает о своей весьма сильной дружбе с Воейковой, а в феврале 1824 года прямо говорит о большом влиянии этой женщины на него.
В последующих письмах этого года он называет Воейкову «божественной» и «возвышенной», но с 1825 года его отношения к звезде резко меняются, и это в самом деле отражается на слоге его писем, который становится и грубоватым, и даже местами циничным. Вот его образцы: «Я бы с удовольствием исполнил твое предложение в рассуждении Воейковой, но видишь ли, друг мой, в чем дело: я ее никогда наедине не видывал, она как-то высоко себя несет; показывает, что не понимает моих изустных и печатных комплиментов. А для вручения письма нужно иметь хотя малейшую надежду, что она, как говорят наши студенты, даст сатисфакцию или, проще, даст. Впрочем, я что-нибудь предприму по сей части и буду сообщать тебе записки о моих приступах»12. «Ну, брат, видно мне не вкусить от Воейковой плода запрещенного: она на следующей неделе отсюда уедет, а до сих пор я ничего решительно не сделал, даже не притворялся влюбленным и рассеянным (последнее легче). Впрочем, в этот раз она не очень сильно на меня подействовала; прежде я как-то более принадлежал или хотел принадлежать ей, ныне все шло без особенностей; она не произвела ни одного стиха, ни одной любовной мысли моей Музе»13.
Последнее замечание Языкова может прояснить, чем же вызвана такая в нем перемена к Воейковой. Вспомним его установку – «не описывать того, чего не чувствуешь». В одном из писем к сестре Языков пытается ей объяснить, как искреннему выражению чувств между людьми близкими мешает неверная форма обращения: «Вы: это слово годится только между людьми, не знающими друг друга которые, чтоб не обидеть одно лицо, их слушающее, хотят увеличить его, так сказать, и употребляют из осторожности число множественное. Вы это как-то слишком модно, слишком вежливо, некстати, неприятно, странно между, например, тобою и мною, где не должно быть комплиментов и принужденности, где должно писаться только то, что чувствуется, просто и открыто, следственно – без увеличения как предметов письма, так и лица, к которому оно адресуется... мысли делаются принужденнее, слова длиннее (это ясно; ты – вид очень простой, а Вы что-то крючковатое), выражения чопорнее и все вообще как-то вяло и не в надлежащем виде»14.
Так вот, для того чтобы описывать то, что чувствуешь («просто и открыто», «без увеличения... предметов письма... и лица», без чопорности и принужденности) форма отношений должна основываться на «Ты». Но этому мешали два обстоятельства. Одно связано с самой А.А. Воейковой, другое – с романтическим представлением о Поэте как о певце возвышенного. Воейкова как реальная женщина в отношениях с Языковым держала такую дистанцию, которая не допускала ни малейшей возможности для перехода с Вы на Ты. Это с одной стороны. А с другой, она же в качестве «божественного предмета» требовала соответствующего его статусу поэтического языка, как раз и предполагающего «увеличения как предметов письма, так и лица». Иначе говоря, Жизнь и Поэзия, каждая по-своему, диктовали Языкову свою волю и демонстрировали свое упорное нежелание сочетаться брачными узами, быть, согласно программной установке Жуковского, одним целым. Жизнь в лице Воейковой отказывала представителю Поэзии в отношениях с ней на Ты. И в том же отказывала Жизни требовавшая возвышенного предмета Поэзия. Первое не давало Языкову желаемой близости к Воейковой, а второе – выражаться просто и открыто.
Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с пушкинским «Ты и вы»:
Пустое вы сердечным ты Она обмолвясь заменила, И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!15
То, что у Пушкина происходит легко и непринужденно, у Языкова превращается в неразрешимую проблему. Ему, как Пушкину, не удается, говоря
Вы , мыслить Ты , поднять жизнь до поэзии и одновременно опустить поэзию до жизни.
В том же, что жизнь и поэзия не соединяются, виноват, как кажется Языкову, не он – виновата Воейкова, которая почему-то не захотела исполнять роль генератора его поэтических вдохновений. Досада на это обстоятельство становится лейтмотивом языковских и писем, и стихотворений этого периода: Воейкова «имеет полное право называться пробудительницею, звездою моего таланта поэтического, ежели он у меня есть»16; «Мне на нее даже досадно: она могла из меня все сделать, могла заставить меня произвести что-нибудь поэтическое – и не умела или не хотела, окаянная!»17.
«Жаль, что здесь нет, например, Воейковой: тогда бы я мог даже на заказ написать что-нибудь дельное. Впрочем согласись сам, что желание ее присутствия вовсе не делает чести существу моему; это похоже на питие водки для возбуждение голода неестественного...»18.
Языкову как будто неведомо, что чувства могут быть разными и что все они могут быть достойными поэтического выражения. Что можно просто и ясно выразить, например, свои переживания по поводу холодности Воейковой, по поводу отсутствия взаимности и что для произведения поэтического вовсе не обязательно иметь перед глазами божественный предмет: «...мне не в диковинку писать для прекрасного пола; здесь я писал, например, для Воейковой, и тогда мои стихи были живы и сильны... Стихи льются, когда пишешь для понимающей прекрасной особы; я тоже пишу и для других красавиц, но они редко меня понимают или совсем меня не понимают и всегда хвалят, между тем как я чувствую, что они не чувствуют – и тогда я не трубадур, а труба дур!»19. Тем не менее, в отсутствии Воейковой Языков ищет ей замену, ему постоянно нужен тот объект, на который могли бы быть направлены его поэтические излияния: «Что касается до меня по части сердечных чувствова- ний, то вот что я сам в себе заметил: в то время, когда здесь нет Воейковой, я охотно посещаю Дирину, пишу даже ей стихи и вообще чувствую что-то ни на что не похожее...»20; «У меня с Воейковой теперь как-то все расстроилось, все кончается, и я снова обращаюсь к Дириной: напишу для нее несколько стихотворений и буду изъяснять в них свои центробежные чувства в рассуждении моей важнейшей прельстительницы»21.
Языкову так и приходится балансировать между двумя взаимоисключающими «не могу»: между « не могу писать, потому что не чувствую» и « не могу выражать то, что чувствую, ибо не всякое чувство годится для того, чтобы быть поэтически выраженным».
Следует сказать, что балансировка между двумя недостаточностями (недостаточностью жизни по отношению к поэзии и недостаточностью поэзии по отношению к жизни) – черта, присущая не только Языкову.
Когда Д.В. Давыдов, говоря о пафосе войны, возвышает ее до поэзии, он хочет сказать о неподлинности поэзии стихотворной. Но при этом, как давно отмечено, его лирический герой и его поэтическая биография носят очевидные идеализированные черты. Герой его поэзии – лихой рубака-гусар – это, конечно, не сам Денис Васильевич Давыдов, немало комплексовавший по поводу своей некрасивости и нескладности. То же самое можно сказать о другой паре: о разбитном и своевольном студенте и о мало на него походящем его создателе, Н.М. Языкове. И в том, и в другом случае недостаточность правды жизни перекрывается поэтической идеализацией реального «Я», а недостаточность поэзии – тем, что это «Я» наделяется исполненным жизненной энергией и силы действием. В той точке, где эти «недостаточности» жизни и поэзии пересекаются, по всей видимости, и рождается лирический герой пушкинской поры, который не пишет о любви, а любит, воюет не на словах, а на деле, представляется не поэтом, а давыдовским казаком или рылеевским гражданином.
* * *
Установка выражать то, что чувствуешь, которой Языков собирался следовать, оказалась для него невыполнимой именно потому, что он так и не смог разобраться в различии между чувствами живыми и риторикой, которую требуют для своего выражения чувства поэтические. Поэтому не случайно, что к одному из самых известных любовных посланий к А.А. Воейковой, Языков в одном из писем к брату даст комментарий, как будто бы свидетельствующий о том, что поэтическая установка «описывать только то, что чувствуешь» так и осталась для него неосуществленной:
«Вот стихи, которые еще не вошли, по времени, в этот сборник: К А.А. Воейковой (судьба их зависит от заглавия).
Забуду ль вас когда-нибудь
Я, вами созданный? Не вы ли
Мне песни первые внушили,
Мне светлый указали путь,
И сердце биться научили? (сильный комплимент!)
Но где ж они,
Мои пленительные дни,
Восторгов пламенная сила, И жажда славного труда? Исчезло все. Меня забыла Моя высокая звезда.
Взываю к вам: без вдохновений
Мне скучно в поле бытия;
Пускай пробудится мой Гений,
Пускай почувствую, кто я
Сделай милость, не толкуй в любовную сторону причины этих стихов: здесь одна комплиментика – следствие недостатка времени, духа и обстоятельств для произведения чего-нибудь достойнейшего моей Музы, игрушка ума или кимвал бряцаний!»22
Тем не менее, вынося эту свою жизненную и творческую проблему в свои стихи, а значит, придавая им живое звучание, Н.М. Языков практически и разрешал то противоречие между жизнью и поэзией, с которым он никак не мог справиться умозрительно.
II
Слово и истина
В VIII главе «Капитанской дочки» разбойник и самозванец Пугачев предлагает природному дворянину Гриневу признать его за царя и служить ему как царю. Гринев Пугачеву отказывает, Пугачев же, вопреки здравому разбойничьему смыслу, в ответ Гринева не губит, а становится его помощником и спасителем.
«Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – “Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо”… Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую… Пугачев взглянул на меня быстро. “Так ты не веришь”, – сказал он, – “чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? … Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?”
– Нет, – отвечал я с твердостию . – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу…
Пугачев задумался. “А коли отпущу” – сказал он – “так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?”
– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего… Голова моя в твоей власти : отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебя судья; а я сказал тебе правду» .
Как видно, исход этого разговора целиком и полностью поставлен в зависимость от того, чтó для каждого из его участников окажется приоритетным – прямота или лукавство. На счастье Гринева его прямой отказ Пугачеву оказался предпочтительнее лицемерного и лукавого согласия. «Моя искренность поразила Пугачева. “Так и быть” – сказал он, ударя меня по плечу. – “Казнить так казнить , миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь…”» 23.
При этом следует заметить, что такое открытое поведение дворянина перед лицом самозванца, как его представляет Пушкин, вряд ли в Екатерининскую эпоху посчиталось бы уместным. Так, к примеру, в знаменитой трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» акценты расставляются принципиально иначе. В отличие от Петра Гринева сумароковский князь Шуйский убежден в необходимости всячески скрывать от злодея истину.
Когда имеем мы с тираном сильным дело, Противоречити ему не можем смело.
Обман усилился на трон его венчать;
24 Так истина должна до времени молчать…
Этому же он учит и жениха своей дочери, Георгия, в поведении которого, с точки зрения искушенного сановника, еще проглядывают «несмыс-ленность и неискусна младость». После внушений Шуйского Георгий подчиняется требованию «вынужденного притворства» и осаждает свое первое желание открыто выступить против тирана, пусть и погибнуть, но не отдать ему своей невесты:
Язык мой должен я притворству покорить,
Иное чувствовать, иное говорить
И быти мерзостным лукавцам я подобен.
Вот поступь, если царь неправеден и злобен 25.
Главный аргумент в пользу того, что дворянину именно так должно обращаться с истиной перед лицом самозванца, состоит у Сумарокова в следующем: подменный, неистинный царь никогда не в состоянии признать власть истины (власть – согласно воззрениям просвещенного века – всеобщего естественного закона над собой: «Перед царем должна быть истина бес-словна; Не истина – царь, – я; закон – монарша власть, А предписание закона – царска страсть»). Из этого и следует, что бесполезно говорить об истине тому, кто считает ее бессловесной 26.
В трагедии Сумарокова самозванец, следуя своему желанию, строит любовные планы относительно дочери князя Шуйского Ксении. Но Ксения любит Георгия, и эта любовь скреплена естественным законом, «короне непричастном». Страсть Димитрия этот закон попирает. Георгий делает попытку, хотя и безуспешную, отстоять данное ему естественным законом право:
Но досаждаю ли предлогом сим царю, Когда я истину и в страсти говорю?
Я знаю то, что я во всем царю подвластен, Но жар моей любви короне непричастен.
Мое ль то, что закон естественный дает? 27
Примечательно, что страсть может быть и враждебна истине, и тем, в чем истина нуждается. В одном случае (тогда, когда страсть – «предписание закона») она, ослепляя разум, попирает истину учреждаемым ею своеволием, в другом – уничтожает все препоны, мешающие ее обнаружению. Истина как голос Природы обнаруживается в том, что говорится со страстью, прямо, истово, «в жару и в огне души», а главное, несмотря на грозящую опасность или вопреки грозящей опасности.
Так именно это и выглядит у Пушкина. Его Гринев, в отличие от сума-роковского Георгия, свой язык притворству не покоряет и говорит открыто, а его Пугачев, в отличие от сумароковского Димитрия, за эту открытость не карает, а милует. И если страстное своеволие сумароковского Самозванца есть самое верное свидетельство его царской несостоятельности, то своеволие Пугачева перед лицом неизбежной гибели (им прямо осознаваемой) свидетельствует о какой-то его высшей истинности.
***
В этой же VIII главе есть «банная» сцена, где Пугачев демонстрирует знаки, должные стать убедительным «доказательством» его царского происхождения. Однако если судить о царском статусе не по знакам, а, как полагает бескомпромиссный герой сумароковской трагедии, – по достоинству28, то Пугачев им будет наделен действительно, и именно тогда, когда поведет с
Гриневым разговор, который Марина Цветаева назвала «поединком великодуший» и «соревнованием в величии»29. В этом «соревновании» каждый возвышается над собой, и каждый способствует возвышению другого. Что касается Гринева, то он способствует такому возвышению уже тем, что ведет себя с соперником не так, как, согласно сумароковскому князю Шуйскому, должно дворянину вести себя с самозванцем, а так, как должно дворянину вести себя с царем – прямо и открыто. При этом, однако, на выбор между прямотой и лукавством провоцирует Гринева Пугачев. И это очень напоминает такую ситуацию испытания, когда сказочному герою приходится перед царем «ответ держать», и от того, каким этот ответ будет, – правильным или неправильным (здесь важно не только то, что испытуемый говорит, но и то, как он ведет себя, когда говорит то, что говорит) – зависит последнее царское решение – казнить или миловать.
Отвечая прямо, твердо, правдиво, Гринев с честью выдерживает испытание и заслуживает милости: «Моя искренность поразила Пугачева. “Так и быть – сказал он, ударя меня по плечу. – “Казнить так казнить , миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь…”»30. В итоге такого «соперничества» и тот, и другой оказываются победителями: Гринев заслуживает царской милости, а Пугачев – права миловать по-царски.
Возможно, в этой ситуации есть еще одно измерение, и связано оно с гриневской склонностью к стихотворству. С его учетом Гринев предстает перед Пугачевым не просто как дворянин, но еще и как поэт, которому (для того чтобы соответствовать присвоенному ему просветительской эпохой стату-су31) следует говорить с царями прямо и открыто. Эта позиция манифестируется Пушкиным в стихотворении «Друзьям», с прямой, как считается32, отсылкой к державинским строкам из двух посланий к Храповицкому («Богов певец / Не будет никогда подлец»33, «Раб и похвалить не может, / Он лишь только может льстить»34), косвенной – к Жуковскому («О дивный век, когда певец царя – не льстец, / Когда хвала – восторг, глас лиры – глас народа»35), а через Державина и Жуковского – к ломоносовскому переложению 14 псалма («Господи, кто обитает /В светлом доме выше звезд? / Кто с тобою населяет / Верьх священный горних мест? / Тот, кто ходит непорочно, / Правду завсегда хранит / И нелестным сердцем точно, / Как языком говорит. / Кто устами льстить не знает…»36).
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет, Он из его державных прав Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный, Он скажет: просвещенья плод -Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены к престолу, А небом избранный певец Молчит, потупя очи долу37.
В момент испытания Пугачев, самозваный царь, обретает подлинное царское достоинство, а Гринев, «самозваный», доморощенный поэт, – достоинство настоящего поэта. Правда поэта, высказанная нелестным сердцем , подвигает царя на то, чтобы между двумя державными правами выбрать не казнь, а милость.
***
По словам М.М. Щербатова – автора труда «О повреждении нравов в России» (1858), Петр, считая одними из главных человеческих пороков «лесть» и «самость», всеми силами старался их искоренить. И, напротив, своим «люблением истины» поддерживал искренность и простодушие даже в тех ситуациях, когда они были, казалось бы, совершенно неуместны. В подтверждение этого Щербатов вспоминает о реакции Петра, последовавшей на неуместное простодушие морского поручика: «“На кого ты нас оставишь”. Ответствовал государь: “У меня есть наследник”, – разумея царевича Алексея Петровича. На сие Мешуков спиана и неосторожно сказал: “Ох! вить он глуп, все расстроит”. При государе сказать так о наследнике, и сие не тайно, но пред множеством председящих! Что сделал государь? Почувствовал он вдруг дерзость , грубость и истину и довольствовался, усмехнувшись, ударить его в голову с приложением: “Дурак, сего в беседе не говорят”»38.
Как Просветительская эпоха с ее апологией естественности и естественного сопрягает истину с простотой, ясностью и открытостью, так и Петр прощает простодушного Мешукова, у которого мысль и речь пребывают в естественном сопряжении. Мешуковы царю не опасны – царю опасен иной род людей, о котором в другое время и предупреждает Н.М. Карамзин Александра I в связи с его восшествием на престол:
Есть род людей, царю опасный:
Их речи как идийский мед, Улыбки милы и прекрасны; По виду - их добрее нет; Они всегда хвалить готовы; Всегда хвалы их тонки , новы: Им имя - хитрые льстецы; Снаружи ангелам подобны,
Но в сердце ядовиты, злобны И в кознях адских мудрецы. Они отечества не знают;
Они не любят и царей, Но быть любимцами желают; Корысть их бог: лишь служат ей. Им доступ к трону заградится…39
Тонкость , которой обладают «хитрые льстецы», противопоставляется грубоватой прямоте как спутница лжи, а не истины. В прямоте и простоте, а не в тонкости, по выражению Державина, «уста согласуются с сердцем» 40. А вот между умом и тонкостью подобной взаимодополнительности, во всяком случае для Пушкина, не наблюдается: «Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением , обыкновенно простодушным , и с великим характером, всегда откровенным»41. В прозаическом отрывке «Мы проводили вечер на даче» Пушкин коснется этой темы более развернутым образом. Гений не может быть двуязычен: когда он о чем-то говорит, то в этом говорении речь, мысль и предмет пребывают в абсолютном и прямом согласии42.
Прямота – одна из излюбленных Пушкиным характеристик в отношении и тех реальных лиц, и тех персонажей, к которым он относится с неприкрытой симпатией: «Нет, добрый Галич мой! / Поклону ты не сроден. / Друг мудрости прямой / Правдив и благороден»43; «Жил на свете рыцарь бедный, / Молчаливый и простой, / С виду сумрачный и бледный, / Духом смелый и прямой 44; «Я знаю: в вашем сердце есть / И гордость, и прямая честь»45; «Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, ко- гда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина»46.
Прямота – и верный знак истинности дружеских отношений: «Он гость без этикета, / Не требует привета / Лукавой суеты ; / Прими ж его лобзанья / И чистые желанья / Сердечной простоты !»47. Она и знак особого отличия того, к кому она обращена. Только действительно истинное требует прямого к себе обращения – любая иная форма была бы для него унизительна. «Покажи это Грибоедову. Может быть я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков , как истинному таланту»48.
В этой связи следует указать еще на одно важное для Пушкина обстоятельство. Высказываемое не может претендовать на статус истинного, если оно не сопрягается с благоволением, а благоволение, в свою очередь, не подпитывается любовью. Со всей отчетливостью этот ряд выстраивается в размышлениях Пушкина 1836 г. о Радищеве и его книге (а это время и «Капитанской дочки»), которая, с его точки зрения, не принесла много пользы потому, что была проникнута «брачливыми и напыщенными выражениями» с «примесью пошлого и преступного пустословия». Ее «несколько благоразумных мыслей… «принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви »49.
***
Только проникнутое любовью слово оказывается истинно способным донести истину. Ясно, что любовь в этом случае осмысливается не в фетовском смысле: она не состояние, а действие. Идея триединства истины, слова и действия своеобразно наложилась на обыгрываемый в «<Мы проводили ве- чер на даче>» «древний анекдот» о Клеопатре. В «дачной» интерпретации египетская царица предстала изобретательницей такого способа проверки, который позволяет судить об истинности или ложности высказывания с абсолютной степенью достоверности: «Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того что твердят ей поминутно – что любовь ее была бы дороже им жизни»50. Для того, чтобы доказать истинность слов, соискателям любви царицы должно принести в жертву свою собственную жизнь. Истинность должна быть подтверждена жертвенным действием.
Как правило, жертва у Пушкина совершается во имя того, что дóлжно, во имя безусловных и надличностных принципов долга и чести, которые – в отличие от стихийных порывов чувств – ни при каких условиях не могут допускать двусмысленности. В конфликте между истинностью спонтанно выраженного чувства и истиной-долгом пушкинские герои неизменно следуют старой классицистической норме – они встают на сторону долга, который у Пушкина осмысливается как такой незыблемый порядок вещей, на котором мир держится.
Защищая свою честь, Дубровский-отец поплатился и имением, и жизнью. Дочь Троекурова Маша прямо и твердо отказывает Дубровскому-сыну и тем самым обрекает себя на жизнь с нелюбимым человеком во имя долга и чести. (И в этом она оказывается наследницей Дубровского-отца, его дочерью, а не знающий рамок и границ Дубровский-сын – наследником Троекурова.) Татьяна отказывает Онегину в его «беззаконной» страсти, узаконивая тем самым свой отказ от счастья во имя долга, но и учреждая любовь в ее истинном статусе.
В «Капитанской дочке» Пушкин еще раз возвращается к «ударной» в «Евгении Онегине» ситуации отказа. Нетрудно заметить, что отказ Татьяны
Онегину и отказ Гринева Пугачеву представляют собой в функциональном аспекте два параллельных места. Вот одно: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна»51, а вот другое: «Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую … – Нет, – отвечал я с твердостию . – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу…»52. И Татьяна, и Гринев по долгу отданы другим, а по чувству одна принадлежит Онегину, а другой – Пугачеву. Гринев родственен Пугачеву, олицетворенной стихии, именно своими стихийными порывами 53. Со стороны чувства он – сын Пугачева, а со стороны долга – вассал Екатерины и ее царства, где царят не порывы («казнить так казнить, миловать так миловать»), а норма и правосудие.
Истинность стихийного чувства и стихийности в целом («казнить так казнить, миловать так миловать») в этом случае оказывается едва ли не выше и не истиннее долга (которому в «Капитанской дочке» придается очевидный бюрократический оттенок), но опять-таки именно потому, что Пугачев удостоверяет эту истинность прямым образом – ценой собственной жизни54.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Рособразования) в рамках исследовательского проекта 2.1.3 / 4705 «Универсалии русской литературы (XVIII – начало XX вв.)».
-
1 Языковский архив. Вып. 1. СПб., 1913. С. 54.
-
2 Денисов Д.В. Стихотворения. Проза. М., 1987. С. 84.
-
3 Языковский архив. С. 56.
-
4 Там же. С. 30.
-
5 Языков Н.М. Сочинения. Л., 1982. С. 75.
-
6 Языковский архив. С. 124.
-
7 Языков Н.М. Указ. соч. С. 75.
-
8 Языковский архив. С. 59.
-
9 Языков Н.М. Указ. соч. С. 63.
-
10 Языковский архив. С. 32.
-
11 Там же. С. 77.
-
12 Языковский архив. С. 164.
-
13 Там же. С. 167.
-
14 Там же. С. 114.
-
15 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 19 т. М., 1994–1997. Т. 3. С. 103.
-
16 Языковский архив. С. 201.
-
17 Там же. С. 183.
-
18 Там же. С. 223.
-
19 Языковский архив. С. 119.
-
20 Там же. С. 116.
-
21 Там же. С. 176.
-
22 Языковский архив. С. 222.
-
23 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332–333.
-
24 Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 257.
-
25 Там же. С. 258.
-
26 В другом месте пользу молчания Сумароков обосновывал так: «Коль истиной не можно отвечать, / Всего полезнее молчать (Притча «Пир у льва»); «А ежели нельзя сказати правды явно, / По нужде и молчать, хоть тяжко, – не бесславно» (Сатира «О честности»). ( Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 214, 195.)
-
27 Сумароков А.П. Указ. соч. С. 272.
-
28 Породе достоинство противополагается и в трагедии Сумарокова. Так, в ответ на реплику лукавого князя Шуйского о том, что «Димитрия на трон взвела его порода», следует возражение мудрого и бескорыстного Пармена: «Когда владети нет достоинства его, / Во случае таком порода ничего. / Пускай Отрепьев он, но и среди обмана, / Коль он достойный царь, достоин царска сана». ( Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 266.)
-
29 Цветаева М.И. Мой Пушкин. М., 1981. С. 179.
-
30 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 333.
-
31 Говорить царям истину – одно из положений в руководстве для поэтов Буало: «Великий государь, я не умею льстить: / Я карлу никогда не назову Титаном, / А труса – воином, отважным в деле бранном, / Вельможам я перо на откуп не отдам, / Земным богам курить не буду фимиам. / И даже пред тобой не стану я лукавить, / Скрывая мысль свою , чтобы тебя восславить; / Безмерна власть твоя, но сколь ты не велик, / Лишь сердце говорить заставит мой язык , / Ни милость, ни расчет, ни сила убежденья / Не вырвут у меня вовек стихотворенья». (Цит. по: Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М., 2002. С. 169).
-
32 См. об этом: Осповат К. Об «одическом диптихе»: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) // Пушкинская конференция в Стенфорде 1999: материалы и исследования. М., 2001. С. 133–142.
-
33 Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 2002. С. 223.
-
34 Там же. С. 291.
-
35 Жуковский В.А. Собр. соч.: в 4 т. 1959. Т. 1. С. 210.
-
36 Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л., 1986. С. 186.
-
37 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 89.
-
38 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // Кн. Щербатов и А. Радищев. Лондон, 1858. С. 27.
-
39 Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 263–264.
-
40 Ср. державинское прояснение своей позиции в связи с написанием оды «Фелица»: «Я не могу богам, не имеющим добродетели, приносить жертвы и никогда и для твоей хвалы не скрою моих мыслей: и сколь твоя власть ни велика, но если бы в сем мое сердце не согласовалось с моими устами , то б никакое награждение и никакие причины не вырвали б у меня ни слова к твоей похвале» ( Державин Г.Р. Сочинения: в 4 т. СПб., 1864. Т. 1. С. 151.)
-
41 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 11. С. 55–56.
-
42 «Мы проводили вечер на даче у княгини Д. Разговор коснулся как-то до М-de de Staёl. Барон Д** на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту – Кого почитает он первою женщиною в свете? – и забавный его ответ: Ту, которая народила более детей. Celle qui a fait le plus d'enfants. – Какая славная эпиграмма! заметил один из гостей. – И поделом ей! сказала одна дама. Как можно так неловко напрашиваться на комплименты? – А мне так кажется, сказал Сорохтин, дремавший в Рамсовых креслах, мне так кажется, что ни M-de de Staёl не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала <вопрос> из единого любопытства, очень понятного; а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию Гениев» (8, 420).
-
43 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 102.
-
44 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 161.
-
45 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.
-
46 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 162.
-
47 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 90.
-
48 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 13. С. 139.
-
49 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 12. С. 36.
-
50 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 424.
-
51 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.
-
52 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332.
-
53 Ср. рассуждение А.И. Иваницкого о стоящей перед Гриневым ситуации выбора между нормой и волей, между «хочу» и «надо».
-
54 Этим он отличается, скажем, от «бюрократичного» Сальери, идущего к истине обходным, лукавым путем: он приносит в жертву долгу-истине не собственную персону, а «стихийного» Моцарта. Об этом подробнее и в несколько ином ракурсе см.: Фаустов А.А. Творческое поведение Пушкина. Воронеж, 2000. С. 126 и сл.
Список литературы Нарративные коллизии пушкинской эпохи: два сюжета
- Языковский архив. Вып. 1. СПб., 1913. С. 54.
- Денисов Д.В. Стихотворения. Проза. М., 1987. С. 84.
- Языковский архив. С. 56.
- Там же. С. 30.
- Языков Н.М. Сочинения. Л., 1982. С. 75.
- Языковский архив. С. 124.
- Языков Н.М. Указ. соч. С. 75.
- Языковский архив. С. 59.
- Языков Н.М. Указ. соч. С. 63.
- Языковский архив. С. 32.
- Там же. С. 77.
- Языковский архив. С. 164.
- Там же. С. 167.
- Там же. С. 114.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 19 т. М., 1994-1997. Т. 3. С. 103.
- Языковский архив. С. 201.
- Там же. С. 183.
- Там же. С. 223.
- Языковский архив. С. 119.
- Там же. С. 116.
- Там же. С. 176.
- Языковский архив. С. 222.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332-333.
- Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 257.
- Там же. С. 258.
- Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 214, 195.
- Сумароков А.П. Указ. соч. С. 272.
- Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 266.
- Цветаева М.И. Мой Пушкин. М., 1981. С. 179.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 333.
- Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М., 2002. С. 169.
- Осповат К. Об «одическом диптихе»: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию)//Пушкинская конференция в Стенфорде 1999: материалы и исследования. М., 2001. С. 133-142.
- Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 2002. С. 223.
- Там же. С. 291.
- Жуковский В.А. Собр. соч.: в 4 т. 1959. Т. 1. С. 210.
- Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л., 1986. С. 186.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 89.
- Щербатов М.М. О повреждении нравов в России//Кн. Щербатов и А. Радищев. Лондон, 1858. С. 27.
- Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 263-264.
- Державин Г.Р. Сочинения: в 4 т. СПб., 1864. Т. 1. С. 151.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 11. С. 55-56.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 102.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 161.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 162.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 90.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 13. С. 139.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 12. С. 36.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 424.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.
- Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332.
- Фаустов А.А.Творческое поведение Пушкина. Воронеж, 2000. С. 126 и сл.