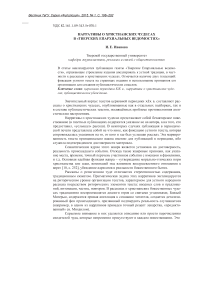Нарративы о христианских чудесах в «Тверских епархиальных ведомостях»
Автор: Иванова Ирина Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Журналистика и реклама
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются публикации газеты «Тверские Епархиальные ведомости», отражающие стремление издания апеллировать к устной традиции, в частности к рассказам о христианских чудесах. Отмечается наличие двух тенденций: фиксация устного текста на страницах издания и использование принципов его организации для создания публицистических смыслов.
Короткий адрес: https://sciup.org/146121612
IDR: 146121612 | УДК: 82.161.1.09-343.5+070.1
Текст научной статьи Нарративы о христианских чудесах в «Тверских епархиальных ведомостях»
Значительный корпус текстов церковной периодики xIx в. составляют рассказы о христианских чудесах, опубликованные как в отдельных подборках, так и в составе публицистических текстов, посвящённых проблеме противостояния атеистическим настроениям.
Нарративы о христианских чудесах представляют собой безавторское повествование (в газетных публикациях содержится указание не на автора, а на того, кто предоставил, «услышал» рассказ). В некоторых случаях публикация в периодической печати представляла собой не что иное, как фиксацию устного текста, которая сопровождалась указанием на то, от кого и где был услышан рассказ. Эта маркированность текста принципиально важна именно для публикаций в периодике, ибо служила подтверждением достоверности материала.
Семантическим ядром этого жанра является установка на достоверность, реальность происшедшего события. Отсюда такие жанровые признаки, как указание места, времени, точный перечень участников события с именами и фамилиями, и т.д. Основная идейная функция жанра – «утверждение морально-этических норм христианства или идеи, возникшей под влиянием воодушевленного отношения к вере» [10, с. 252], убеждение адресатов в реальности божественного бытия.
Рассказы о религиозном чуде отличаются стереотипностью содержания, традиционным сюжетом. Прагматическая задача этих нарративов эксплицируется на риторическом уровне организации текстов, характерном для устного народного рассказа посредством риторических элементов текста: вводных слов и предложений, интонации, частиц, повторов. В рассказах о христианских божественных чудесах традиционно воспроизводятся диалоги героя со святыми угодниками, Божьей Матерью, содержится прямая апелляция к сознанию читателя, создается детализированный фон происходящего, призванный подтвердить реальность случившегося (например, в одном из нарративов приведен точный рецепт лекарства, «продиктованный» св. Михаилом).
Серьезное внимание в них уделяется описанию или просто перечислению свидетелей чуда, которые непременно присутствуют в каждом повествовании. Это могут быть паломники, прихожане храма, специально приглашенные «для подтверждения, иногда в документальной форме», священники и врачи (последние, как правило, признают в этом случае бессилие науки перед Божьим промыслом), а также случайные свидетели чуда, случившегося при большом скоплении народа.
Во многих публикациях в целях большей убедительности сохраняется, передается ситуация рассказывания истории о божественном чуде. Так, в № 27 «Тверских епархиальных ведомостей» (далее – «ТЕВ») за 1879 г. опубликован рассказ некоего полковника, который он озвучил в купе поезда двум своим случайным попутчикам. Поводом для рассказа послужило появление в купе продавца духовной литературы. Покупая у него брошюры, полковник рассказывает о собственной встрече с «благодатным чудодействием»: он исцелился «по молитве к Божьей Матери» («Можете вообразить, как я тепло молился Божьей Матери, как глубоко я почувствовал веру в благодатную силу, от ея иконы источаемую…» [6, с. 424].
Не выходя за рамки требований, предъявляемых к достоверному рассказу, нарратив о божественном чуде может быть представлен на страницах газеты в форме письма, путевых заметок, воспоминаний, сохраняя при этом жанровые приметы устного рассказа, такие как «перебив» речи, вставные конструкции. Авторы мыслят себя при этом именно рассказчиками и не создают произведение письменной культуры, а записывают свой рассказ или рассказ другого лица, услышанный ими в определенной ситуации. В отдельных случаях можно говорить о «беллетризован-ных рассказах о церкви», адресованных широкому кругу читателей [3, с. 60].
В то же время жанр письма в газету – это принципиально отличное явление, которое подвергалось известному анализу со стороны исследователей в области теории журналистики. Так, например, Е.П. Прохоров относит «письмо в газету» к так называемой «народной публицистике», которую характеризует следующим образом: «Народная публицистика включает в себя произведения, написанные не публицистами-профессионалами, а родившимися в гуще масс и выражающими их понимание событий, мнения, стремления, интересы, настроения, чувства» [5, с. 207].
С нашей точки зрения, применительно к письмам о чудесных исцелениях следует говорить, что их авторы стремятся придать тексту требования, которые кажутся им обязательными для газетной статьи. Ориентируясь на язык и стиль газетной публикации, авторы обращаются к тем языковым принципам, которые осознаются ими как отличительные признаки газетно-публицистического стиля: газетные штампы, книжная лексика, заимствованные слова (в меньшей степени), элементы канцелярско-делового стиля. В то же время авторы писем о чудесах исцеления в большинстве своем (за исключением представителей интеллигентной, образованной среды) находятся под влиянием традиции устного рассказа, что отражается на композиционно-стилистическом уровне построения текста.
По своей тематической заданности достоверные произведения о христианском чуде можно разделить (мы используем только материал «ТЕВ») на несколько устойчивых тематических групп: рассказ об исцелении смертельно больных детей, об исцелении богоугодных людей, чье дальнейшее жизненное предназначение – служение богу в миру или монашестве, о нравственно-религиозном прозрении представителей неправославного вероисповедания, других религиозных конфессий или неверующих в прошлом, открывших для себя Бога только в момент совершения чуда, о чудесах бытового характера (прекращение пожара, невозгорание от сильного удара молнии) вследствие глубоко искренней молитвы, вознесенной к Богу.
Разумеется, такое тематическое деление может быть признано весьма условным по той причине, что невозможно классифицировать все рассказы о божественном чуде как случаи чудесного исцеления или духовного прозрения. И в этом случае нужно иметь в виду прежде всего не тематическое разнообразие данных нарративов, но основное назначение этого жанра, установку на определенный аспект общественного бытия, общий для всех нарративов мотив вмешательства божественной силы в реальную жизнь.
Не случайным для журнальной публикации является основной тематический принцип отбора материала – сообщение о чудесном исцелении. Именно рассказ о чудесном исцелении церковная периодика считает возможным публиковать, не опасаясь при этом пересечений с апокрифическим материалом.
«ТЕВ» публикуют собственные материалы о божественном вмешательстве в жизнь людей, обращаются к перепечатке из других органов церковной периодики. Последнее обстоятельство нисколько не умаляло в глазах читателя содержательноидейной значимости нарративов, ибо служило прямым доказательством широкого бытования случаев божественных чудес на всей территории России.
Рассказы о божественном вмешательстве в жизнь обычного, рядового человека на страницах «ТЕВ» печатаются, как уже говорилось, регулярно. При этом невозможно проследить какой-либо закономерности в плане их «приуроченности» к какому-то религиозному событию, исторической дате и т.д. Исключение составляет, пожалуй, подборка собственно тверских материалов, связанных с празднованием в Торжке при Новоторжской соборной церкви дней памяти святой мученицы Уили-ании. Текстам рассказов о чудесах, творимых этой святой, особенно почитаемой в Торжке, предшествует список из 53 имен исцелившихся через обращение к святой. Этот список был составлен священниками Новоторжской соборной церкви и хранился «при гробе святой княгини-мученицы».
Эффект от публикации этого документа был направлен, во-первых, на утверждение идеи достоверности случаев исцеления, во-вторых, факт приведения в газете списка исцеленных должен был вызвать немедленный отклик среди читателей в виде новых свидетельств чудесных событий, связанных с именем св. Уилиа-нии [ 8, с. 704–708].
Немаловажную роль в отборе материалов о чудесах, в их систематизации и способах подачи, разумеется, играла позиция редакторов «ТЕВ», которые стремились дистанцироваться от народных представлений о божественном чуде и заменить их фактографическими свидетельствами. Кроме того, журнал преследовал важную идеологическую задачу – противостоять настроениям неверия, богоотрица-ния в различных слоях общества. Это послужило толчком к публикации целого ряда рассказов, в центре которых находилось прозрение неверующего человека, соприкоснувшегося с «тайной, о которой не знает ни один человек под небом, ни самая пачка ученых» [6, с. 471].
Рассказ «Чудесное исцеление» [12, с. 343–344] посвящен как раз такому случаю – духовному прозрению материалиста и нигилиста. Герой-повествователь рассказывает о том, как «увлекся доводами материализма, предпочитал чтению “Евангелия” произведения немецких профессоров, трактующих с университетских кафедр, что там, где начинается наука, кончается вера» [12, с. 343]. Отречение от православной веры обернулось для героя жизненной трагедией: «по совершенно непонятной причине» он оглох. Болезнь лишила его средств к существованию, заставила искать выход из создавшегося положения в добровольном уходе из жизни.
В рассказе неоднократно подчеркивается, что самоубийство для неверующего человека не преступление: «Философия моих любимых писателей, преимущественно Геккеля, в этом смысле нисколько не шла вразрез с моим замыслом самоубийства» [12, с. 343]. В тот самый момент, когда герой окончательно решил покончить собой («Я решился утопиться»), он увидел толпу народа, которая собралась у Иверских ворот, чтобы помолиться перед иконой Божьей Матери. Необъяснимая сила толкнула рассказчика к иконе, заставила «искренне перекреститься, в первый раз за 37 лет, упасть на колени перед образом» [12, с. 344]. В тот же миг герой почувствовал возвращение слуха. Восторг и раскаяние в равной мере овладели им, и он тут же, перед иконой Божьей Матери, «дал себе клятву чистосердечно признаться перед всеми и каждым в том, что произошло» [12, с. 344].
Последнее заявление героя свидетельствует о том, что он дал клятву рассказывать о случившемся, а в представлении образованного человека это значит еще и писать, обращаясь с чудесной информацией к широкому кругу читателей посредством газеты. Для героя-рассказчика важно, чтобы в этот круг попали его бывшие единомышленники, до сих пор не раскаявшиеся в грехе неверия. Кроме того, через рассказывание происходит окончательное духовное исцеление героя.
Идейная направленность этого рассказа о божественном чуде должна была убедить читателя в том, что физическое исцеление, хотя оно и имело место, не идет ни в какое сравнение с исцелением души, отравленной неверием.
Вообще следует говорить о том, что интеллигенция на страницах духовной печати второй половины xIx в. изображалась как носительница мнимого знания, то есть знания в области науки, но не в области духовного, нравственного знания. С этой точки зрения, интеллигенция нуждалась в религиозно-нравственном просвещении ничуть не в меньшей степени, чем народ. И в этом плане публикации о духовном прозрении представителей интеллигенции должны были сыграть существенную воспитательно-просветительскую роль.
Особое, воинствующее отрицание вызывали у церкви и церковной периодики различные сектантские движения, имевшие широкое распространение во второй половине xIx – начале ХХ вв., старообрядческая культура и другие проявления так называемого народного православия. Именно к ним обращены некоторые рассказы о чудодействиях. В одном из них автор прямо обращается к «врагам православной церкви» со словами: «Сие чудесное исцеление, нимало не подходящее под законы естественного врачевания, заставляет увериться раскольников, этих врагов православия, что в православной церкви обитала и поныне обитает благодать Божия» [8, с. 413].
Рассказ «Замечательное событие» [1, с. 282–285] повествует о православном чуде, случившемся в семье раскольников. Героиня рассказа – тяжело заболевшая девочка шести лет – отказывается принять раскольничье крещение, ибо была крещена в православной церкви. Больше двух недель ребенок находился без сознания, но, почувствовав, что ее хотят перекрестить, очнулся и произнес «замечательные слова»: «Что это вы делаете? Вы не думаете ли меня перекрещивать, разве я некрещеная; я еще крещена маленькая в церкви… а два раза никого не крестят: Батюшка Истинный Христос один раз крестился» [1, с. 283]. Девочка не избегает смерти (по грехам ее родителей), но последними ее словами были слова о том, что родителям следует ходить в «истинную» церковь.
Жанровая принадлежность этого произведения принципиально другая, нежели устный рассказ о чудодействии. Перед нами литературный рассказ назидательного содержания, активно использующий традиции нарративов о чудесах в
Православии. Чудом в данном случае можно считать факт духовного прозрения ребенка на смертном одре. Способ подачи материала в рассказе, его художественное осмысление сориентированы на народную эстетику и, следовательно, на восприятие и запоминание низовым читателем.
Идею закрепления в народном сознании идеалов православной веры преследуют нарративы о чудесах, которые могут произойти с каждым христианином, чья искренняя молитва достигла адресата и возымела свое реальное воплощение. Тверской священник Алексей Ушмарев рассказывает о чуде, случившемся во время страшного пожара [2, с. 480–482]. В самый разгар борьбы со стихией к священнику обращается «хозяйка дома, где он остановился, госпожа Железникова» с просьбою отслужить у ворот дома молебен. В этот момент герой немедленно вспоминает о своем священническом долге, для него останавливается время, все силы его души сосредоточиваются на молитве. В поле его зрения остается лишь коленопреклоненная женщина, которая была «в таком возбужденном молитвенном состоянии, что невольно напомнила Анну – мать Самуила» [2, с. 481]. Каково же было удивление героя, когда на следующее утро после пожара он увидел, что «…кругом все сгорело, остался лишь деревянный дом Железниковых» [2, с. 482].
О. Иссаакий в своем рассказе о чудесном избавлении «от напрасныя смерти» занимает позицию не рассказчика, а проповедника. Для него рассказ о чуде, сотворенном святым чудотворцем Николаем, является, по сути, приемом проповеднического назидания, обращенным к широкой аудитории и прежде всего к «умникам нынешним», то есть к интеллигенции, одолеваемой грехом неверия [7, с. 488]. И в этом плане рассказ о. Иссаакия продолжает традиции проповеди для простого народа, которая через простые, но чрезвычайно убедительные примеры должна была убедить слушателей в безграничности возможностей Божьего промысла, в том, что жизнь и судьба человека находятся в руках Божьих.
Здесь же уместно будет отметить, что факты взаимопроникновения религиозной и народной культур прослеживаются в церковной периодике второй половины xIx в. на самых разных уровнях: в текстах проповедей для сельского населения, в частности, мы видим стремление священнослужителей искоренить народные обычаи, суеверия, обряды и вместе с этим активное использование просторечного стиля как средства общения с крестьянской аудиторией.
Надо отметить, что сознание сельского пастыря, вынужденного жить и работать в крестьянской среде, неизбежно подвергалось определенному «опрощению», когда священник был вынужден мириться со многими недостатками крестьянского мировоззрения и использовать их в процессе приобщения паствы к церкви. Автор рассказа «Поучительный случай» являет собой типичный образчик сельского священника, который говорит с паствой на ее языке, апеллируя к апокрифическому сознанию крестьянства.
«Поучительный случай» лег в основу «Сказания о чудесном исцелении, совершившегося в последнее время в пустынной обители преподобного Тихона, Калужского чудотворца». Этот случай произошел «с сыном священника города Боровска Никифора Никитина Павловского» [9, с. 413]. В названии публикации («Сказание о…») содержится прямое указание на стремление автора писать в традициях устного творчества, однако в тексте оно не находит своего реального подтверждения. Автор излагает историю исцеления своего сына Павла в лаконичной манере, свойственной письменным свидетельствам о чудесных исцелениях. Он описывает состояние больного, скованного тяжелым параличом, указывает на то, что юноша перено- сил все свои мучения с большим терпением, безропотно и «лишь мечтал окунуться в водах целительного источника в Тихоновой пустыни» [9, с. 413]. Именно там и случилось чудо исцеления: «Недвижимый, искореченный … приговоренный к смерти докторами, увечный страдалец сын мой Павел мгновенно исцелился» [9, с. 413].
Факт чудесного исцеления значителен для автора не только сам по себе, но и как убедительное доказательство того, что в «православной церкви обитала и доныне обитает благодать Божья» [9, с. 413]. Никифор Павловский адресует свой рассказ не столько истинным православным, сколько «врагам православия», которые, по его замыслу, должны были увериться в избранности Православной Церкви. Созданный вне контекста непосредственного общения со слушателями, рассказ тем не менее предполагает активную реакцию негативно настроенного по отношению к изложенному факту читателя.
Если в ситуации рассказывания неизбежно возникает, как уже говорилось, момент обсуждения и интерпретации услышанного, то читательская рефлексия выражается через письмо в газету по поводу прочитанного. Активная позиция читателя-единомышленника находит свое отражение в откликах, содержащих аналогичную информацию, толкование понятий чуда, чудесного явления.
Например, в письме священника, опубликованном под названием «Поразительный случай» [4, с. 713–715] дается лингвистически точная характеристика слова «чудо». Автор отталкивается в своих рассуждениях от распространенного толкования этого слова – «странное явление», «случай», которое не устраивает его, ибо заключает в себе пренебрежительное отношение «материально-опытного века» к явлениям духовно-нравственного порядка. С его точки зрения, невозможно найти синонимической замены слову «чудо», ибо оно обозначает чрезвычайное явление духовной сферы. Далее он приводит типичный пример чудесного явления. Автор письма указывает на то, что об этом чуде «одинаково живо и благоговейно, с тем же раздумьем трактовали у нас и простой, несуемудрствующий народ наш, и образованная интеллигенция» [4, с. 713], то есть фиксирует факт изустного бытования нарратива. Однако в его передаче происходит изменение стилистически-синтакси-ческого строя устного рассказа, который обретает черты газетной публикации.
В целом можно говорить о том, что публикации «ТЕВ» о чудодейственных исцелениях отразили один из интереснейших аспектов духовной, религиозной культуры второй половины xIx в. В рассказах о чудесах, опубликованных в «ТЕВ» (как и во всей церковной периодике того времени), отразились процессы взаимовлияния устной культуры определенной среды, опирающейся на народную традицию в целом, и собственно религиозной культуры в контексте публицистической заданности церковного периодического издания.
Традиция устного достоверного рассказа получила свою интерпретацию в газетной публикации. При этом публикаторы стремились зафиксировать и передать информацию в свете своих представлений о жанровых и идейных особенностях рассказов подобного содержания. Выхолащивая апокрифическое осмысление чудесного явления, церковь создает собственную мифологию, которая неизбежно опирается на мифологические представления широких масс верующих.
(неоф. ч.). С. 713–715.
(неоф. ч.). С. 413.
Tver State University the department of journalism, advertising and public relations
In the article the “Tver Diocese Gazette” publications are analyzed having been reflecting the edition aspiration for the parole appealing tradition, particularly to the stories about Christian Miracles. We note two tendencies: fixation of the parole text on the edition pages and using its organization principles for journalistic contents creation. Key words: church periodicals of 19th century, narratives of the Christian miracles, journalistic persuasion.
Об авторе:
196 196