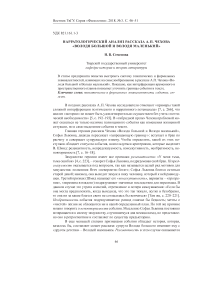Нарратологический анализ рассказа А. П. Чехова "Володя большой и Володя маленький"
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выстроить систему тематических и формальных эквивалентностей, влияющих на смыслообразование в рассказе А.П. Чехова «Володя большой и Володя маленький». Показано, как интерференция временного и пространственного планов позволяет уточнить границы события в тексте.
Тематические и формальные эквивалентности, событие, сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/146281289
IDR: 146281289 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Нарратологический анализ рассказа А. П. Чехова "Володя большой и Володя маленький"
В поздних рассказах А. П. Чехова исследователи отмечают «примеры такой сложной интерференции поэтического и нарративного потенциала» [7, с. 266], что анализ «истории» не может быть удовлетворительно осуществлен без учета «поэтической необходимости» [5, с. 192–193]. В «гибридной прозе» Чехова проблемой может оказаться не только наличие полноценного события как изменения жизненной ситуации, но и само выделение события в тексте.
Главная героиня рассказа Чехова «Володя большой и Володя маленький», Софья Львовна, дважды пересекает «запрещающую границу»: вступает в брак по расчету и совершает супружескую измену. Чтобы определить, какой из этих поступков обладает статусом события, воспользуемся критериями, которые выделяет В. Шмид: релевантность, непредсказуемость, консекутивность, необратимость, не-повторяемость [7, с. 16–18].
Замужество героини имеет все признаки релевантности : «У меня тьма, тьма ошибок» [4, с. 223], – говорит Софья Львовна, подразумевая свой брак. Непредсказуемость оказывается под вопросом, так как называется целый ряд мотивов для замужества: полковник Ягич «невероятно богат»; Софья Львовна боится остаться старой девой; наконец, она выходит замуж в пику человеку, который к ней равнодушен. Третий признак (Шмид называет его «консекутивность» , варианты – «прозрение», «перемена взглядов») подразумевает значимые последствия для персонажа. В данном случае это утрата иллюзий, отрезвление и потеря самоуважения: «Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться» [Там же, с. 220–221]. Необратимость события подразумевается: развод означал бы бедность; мечты о «чистой» жизни не облекаются ни в какой определенный план. По той же причине можно говорить о неповторяемости события. Мысленно Софья Львовна постоянно возвращается к своему замужеству, случившемуся два месяца назад, но представлено оно в ретроспективе и составляет по существу предысторию.
В еще меньшей степени признаками события обладает история, которая, казалось бы, составляет сюжет рассказа: супруга Володи большого изменяет ему с «другом детства» – Володей маленьким. Релевантность в этом случае оказывается под вопросом, так как случившееся ничего не меняет ни в положении Софьи Львовны, ни в ее самосознании. Очевидно также, что падение Софьи Львовны предсказуемо: она понимает, что Володя маленький догадывается о ее любви; видит, как он изменился к ней после замужества. Отсутствует и такой признак, как консеку-тивность, никакого прозрения, перемены взглядов не происходит: главная героиня достаточно умна, чтобы понять, что Володя маленький «презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина» [Там же, с. 217]. Необратимость события состоит в том, что признаться в любви Володе маленькому, стать его любовницей для Софьи Львовны значит окончательно пасть в его глазах. Неповторяемость события прямо обозначена в тексте: «Через неделю Володя маленький бросил ее» [Там же, с. 225].
Является ли в таком случае событием новеллы адюльтер? Заглавие «Володя большой и Володя маленький» как будто на это указывает, равно как и визуализация любовного треугольника в первой сцене: Софью Львовну, которая стоит на быстро несущейся тройке, удерживают с двух сторон за руки муж, Владимир Никитич, и «друг детства», Владимир Михайлыч. Однако это событие слишком незначительно и ничего не меняет в отношениях трех персонажей.
Можно предположить, что перед нами тот самый случай, когда «событие <…> может быть осмыслено лишь путем анализа вневременных эквивалентностей» [7, с. 243]. На примере рассказа «Володя большой и Володя маленький» попытаемся показать, что поздние рассказы Чехова моделируют жизнь главного героя как цепь эквивалентных эпизодов [Там же, с. 243].
Мотивы, связанные с временной и причинно-следственной связью, составляют основу сюжета. В отличие от них эквивалентности лежат вне временных отношений, важно лишь их расположение в тексте, и в этом смысле Шмид говорит об их пространственных характеристиках [Там же, с. 243]. Тематические эквивалентности выделяются на основе «тематического признака» и распадаются на эквивалентности персонажей, ситуаций и действий [Там же, с. 247]. Формальные эквивалентности соотнесены с понятием стиля (лексика, синтаксис, фоника, типы речи) [Там же, с. 452]. Еще одно важное положение связано с тем, что «восприятие эквивалентностей напоминает цепную реакцию. Достаточно идентифицировать какой-либо пучок важных соответствий, как шаг за шагом начинает проявляться густо сплетенная сеть вневременных отношений» [Там же, с. 260].
Хотя, по утверждению Шмида, объективного метода выявления эквивалентностей не существует [Там же, с. 246], при нарратологическом анализе, как и при структуралистском, важно верно определить «точку семантического отсчета». Если исходить из того, что позиционное положение – в начале и в конце текста – предполагает особую значимость эквивалентностей, начать следовало бы с заглавия – «Володя большой и Володя маленький». Эту пару персонажей характеризует самый богатый «пучок» эквивалентностей, уже само заглавие моделирует эквивалентность по сходству и оппозиции. Вопрос в том, будет ли система эквивалентных эпизодов в этом случае моделировать жизнь главного героя, с которым в повествовательном тексте всегда связан сюжет инициации [2, с. 32–36].
Все фазы инициации представлены в судьбе Софьи Львовны. В двадцать три года она боится остаться старой девой (фаза обособления); замужество может быть квалифицировано как квазипартнерство (перспектива жить с нелюбимым человеком ужасает); пороговая фаза маркирована мыслями о смерти. Именно эти мысли заставляют героиню искать смысла жизни, решать для себя «вопрос жизни». Фаза преображения связана с ее новым статусом – «госпожи Ягич».
Гетероперсональная (связанная с разными персонажами) эквивалентность [7, с. 247–248] выстраивается в сопоставлении с кузиной Олей, ушедшей в монастырь. Фаза обособления – одиночество Оли (брат сослан в каторжные работы и пропал, мать умерла). Фаза квазипартнерства как неосуществленная возможность представлена в словах Володи маленького о том, что «жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, – тоже подумать надо!» [4, с. 218]. Пороговая фаза – принятие монашеского сана – отмечена переменами внешними и внутренними и перетекает в фазу преображения: «…и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка» [Там же, с. 220]. Приметами символической смерти выступают не только худоба и бледность, но и отрешение от мирской жизни.
Тематическая эквивалентность подтверждается формальной эквивалентностью. Софья Львовна «par d e pit» (фр. - «с досады») вышла замуж за Ягича. То же выражение «par d e pit» использует другая кузина Софьи Львовны, Рита, когда говорит об Оле.
«– Зачем она пошла в монастырь? – спросил полковник.
- Par d e pit, - сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. - Теперь в моде это par d e pit. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг – на, поди! Удивила!» [Там же, с. 217].
По словам Володи маленького, «тут не par d e pit, а сплошной ужас...» [Там же]. Тематическая и формальная эквивалентности в этом случае актуализируют важность последних вопросов бытия, которые по-разному разрешаются с позиций веры и безверия.
Еще одна важная гетероперсональная эквивалентность связана с упоминаемой в рассказе тетей Софьи Львовны: «…она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места» [Там же, с. 215]. После первого и второго свидания с Володей маленьким Софья Львовна катается одна по городу на извозчике: «И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя, которая не находила себе места» [Там же, с. 225]. Тетю погубил Ягич, Софью Львовну – Володя маленький. Это подтверждается формальной стилевой эквивалентностью – идиомой: «Не находить (себе) места» в значении «Быть в состоянии крайнего беспокойства, волнения, тревоги» [3, с. 270]; «О состоянии крайнего беспокойства, мучения» [1, с. 630]. Здесь имеет место одновременное восприятие идиомы и как устойчивого оборота, и как свободного словосочетания, в результате чего этот элемент выполняет двойную функцию – нарратоло-гическую и поэтическую.
Гетероперсональная эквивалентность по ситуации – Софья Львовна / Володя маленький – подтверждает особый характер любовной связи, по крайней мере для Софьи Львовны. Отцы обоих были военными докторами и служили когда-то в одном полку с Ягичем. Детство прошло под одной крышей на казенной квартире, где они сначала вместе играли, а потом их вместе (очевидно, из экономии) учили французскому языку и танцам. Отмечена бедность отцов и безденежье героев. О Со- фье Львовне говорится, что «до свадьбы у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу» [4, с. 215]; Володя маленький «не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет»; «живет он в казармах у своего отца, военного доктора» [Там же, с. 216]. Естественно для Софьи Львовны в этой ситуации считать, что «друг детства» мог бы быть ей «другом» (она говорит, что так «не говорят с друзьями и порядочными женщинами» [Там же, с. 223]). Человек, которого она любит, представляется ей «необыкновенным», ей кажется, что он мог бы сделать из нее что угодно, «хоть ангела», но поведение Володи маленького демонстрирует неприкрытый цинизм.
Формальная стилевая эквивалентность на лексическом уровне объединяет Володю маленького и Риту. Она «вяло» рассказывает анекдоты – он по временам кажется Софье Львовне « вялым , сонным, неинтересным, ничтожным» [Там же, с. 215]. Сомнительность выбора жизненного пути Маргаритой Александровной (барышня-эмансипе, заменившая жизнь чтением, она «от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки» [Там же, с. 215–216]) бросает тень и на научные занятия Володи маленького.
Но самая разветвленная сеть эквивалентностей связана с Володей большим и Володей маленьким. Оба они – покорители женских сердец, сыгравшие роковую роль в жизни хотя бы одной женщины. Подчеркивается их красота: «Он был тогда очень красив…» – о Ягиче; «сделался стройным, очень красивым юношей» – о Володе маленьком [Там же, с. 215, 216]. Их любовные похождения обрастают легендам: «…и рассказывали про него <Ягича> , будто он каждый день ездит с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным» [Там же, с. 215]; «про него <Володю маленького> недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: “Pardon, je ne suis pas seul”» [Там же, с. 216] (фр. – Простите, я не один). То же фиксирует формальная стилевая эквивалентность на уровне синтагм: «<Ягич> имел необычайный успех у женщин» [Там же, с. 215]; «Он <Володя маленький> тоже имел необыкновенный успех у женщин [Там же, с. 216]. Отмечена их опытность в любви: «Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна…»; о Володе маленьком: «Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные…» [Там же, с. 215]. Тематические эквивалентности выявляют также их искреннюю взаимную привязанность и взгляд на женщину как на низшее существо. Об отношении Ягича к Володе маленькому сказано: «Ягич приходил от него в восторг и благословлял на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его» [Там же, с. 216]; Володя маленький «в тайны своей диссертации посвящал только одного Ягича» [Там же]. Ягич дает жене поцеловать руку перед сном («женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому» [Там же]. Володя маленький, когда Софья Львовна пытается говорить с ним серьезно («Научите же… Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите» [Там же, с. 223]), произносит, а потом поет: «тарарабумбия». Абсурдность этого слова подкрепляется интертекстуальной отсылкой: это «русская транскрипция известной французской песенки – своеобразного гимна парижского полусвета конца XIX в.: Tha ma ra boum di e... » [5, с. 488].
Особое значение имеет изоперсональная тематическая эквивалентность в ситуации катания на тройке, где из участников поездки неизменными остаются Володя большой и Володя маленький. С катания на тройке начинается повество- вание; после описания событий дня эпизод возобновляется: «А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане» [4, с. 225]. Однако и предыстория включает указание на то, что «если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю» [Там же, с. 216]. Через эту тематическую эквивалентность Софья Львовна уравнивается с теми женщинами, которых, вероятно, катали на тройках полковник и Володя маленький. И если раньше «они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу» [Там же], то и случай с Софьей Львовной не нарушает этого обыкновения. Формальная синтагматическая эквивалентность в начале и в конце повествования представляет Володю большого и Володю маленького не как соперников, а как партнеров по бильярду и карточной игре. «Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет» [Там же]; «Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет» [Там же, с. 225].
Статичность быта и бытия подтверждает еще одна изоперсональная синтагматическая эквивалентность, характеризующая кузину Маргариту Александровну. «<Рита> двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно» [Там же, с. 216]; «Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты» [Там же, с. 225].
Анализ эквивалентностей показывает, что, при очевидной редукции события, в рассказе нет и полноценного ментального события. Все это соответствует представлению о том, что «Чехов не изображает ментальных событий, он пробле-матизирует их» [7, с. 16]. В этой ситуации разветвленная сеть эквивалентностей служит выражением мифологической картины мира, с ее вечной повторяемостью, и свидетельствует о бесперспективности жизни вообще и о бесперспективности изменить что-либо в судьбе героев [Там же, с. 267].
Список литературы Нарратологический анализ рассказа А. П. Чехова "Володя большой и Володя маленький"
- Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 630 с.
- Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова). Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. 58 с.
- Фразеологический словарь русского языка/Под ред. А. И. Молоткова. М.: Сов. энциклопедия, 1968. 543 с.
- Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 8. М.: Наука, 1986. 527 с.
- Чудаков А. Мир Чехова. М.: Сов. писатель, 1986. 384 с.
- Чудаков А. П. Примечания/Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 8. М.: Наука, 1986. С. 486-488.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.