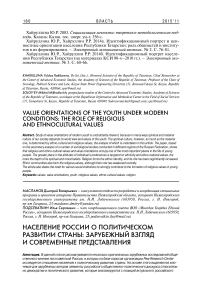Население России о политическом развитии страны: зарубежный взгляд и современные представления
Автор: Масланов Дмитрий Валерьевич, Подсеваткин Илья Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 11, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются несколько оригинальных зарубежных исследований общественного мнения постсоветской России, в которых на базе опросов организации Pew Research Center исследуется отношение населения к политическому развитию страны. На основе этого выделяются ключевые для зарубежных авторов элементы российского общественно-политического дискурса относительно демократии и политического развития, которые анализируются с позиций актуального российского исследования-опроса лояльной аудитории Интернета, проведенного институтом фонда «Общественное мнение».
Демократия, общественное мнение, Россия, в.в. путин, благосостояние, гибридное государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170167732
IDR: 170167732
Текст научной статьи Население России о политическом развитии страны: зарубежный взгляд и современные представления
В данной статье рассматриваются зарубежные, а именно англо-американские, научные исследования конца первого десятилетия XXI в., использующие материалы опросов организации Pew Research Center (далее – PRC ), посвященные данной проблематике. Считаем необходимым для более широкого понимания происходящих процессов и критики зарубежных оценок проанализировать актуальные российские опросы: как население современной России оценивает ее политическое развитие и социально-экономическое благополучие.
Считается, что в зарубежной исследовательской среде существуют три точки зрения на то, почему в России якобы побеждает автократия. Первые утверждают, что это детерминировано культурной составляющей; вторые выступают за то, что это происходит в ХХ и XXI вв. как спасение ослабленного общества от «ужасов» 90-х гг.; третьи считают, что общество не может сейчас представить ничего лучше, чем существующая система. Но не все разделяют эти точки зрения, указывая, что русские вполне демократичны, несмотря на институциональный фасад. Российское общество, по словам Генри Гейла, имеет двойную политическую культуру, и социум, электорат поддерживают не какую-либо форму демократии или автократии, а особый вид демократии, которую Гильермо О’Доннел назвал «делегативной демократией» [Hale 2011: 1358-1359]. Президент в ней рассматривается как воплощение нации, главный хранитель и знаток ее интересов. Его политика может слабо напоминать предвыборные обещания, более того, он ставит себя выше всех политических партий и групповых интересов. Но делегативная демократия не чужда демократической традиции и, по существу, выборы формируют тот набор людей, которые могут управлять государством по своему разумению на протяжении нескольких лет. Вершиной этой системы является президент, который несет ответственность за все успехи или неудачи правительства и власти, тем самым становясь либо идолом в глазах населения, либо виновником всех бед [О’Доннелл 1997]. Генри Гейл отмечает, что данный вид политического режима можно обозначить как гибридный, совмещающий в себе как демократические, так и авторитарные черты [Hale 2011: 1359]. Вместе с тем русские используют такое определение демократии, которое частично либо полностью не совпадает с западным. Для русского человека демократия – это равномерное распределение богатства и социальное благополучие. Страна, таким образом, удачно и демократически развивается, если происходит улучшение этих показателей [Rose, Mishler, Munro 2006: 127-128]. Как отмечают исследователи, более 20% опрошенных PRC в 2006 г. указывали, что демократия – это социальное благополучие и богатство, четверть не смогли точно определить, что делает страну демократической, а 5% респондентов даже не указали, что демократия соответствует свободным выборам и закону, что является важнейшим в представлении западного сообщества [Rose, Mishler, Munro 2006: 128]. То есть, по их подсчетам, более 50% населения частично либо совсем не соотносили представление о демократии с западным, подчеркивающим свободу, право, закон, выборы и политическую конкуренцию. Более поздние опросы, как свидетельствует анализ авторов, говорят о том, что основным для населения России является больше экономическое, чем политическое процветание. Его выбирают в опросах более 49% респондентов. Что экономическое процветание и демократия одинаково важны, считают 44%, а что необходима только демократия – лишь 2% [Colton, Hale 2010: 7]. Данные выводы кажутся верными, ведь, несомненно, своим благополучием ради политической «демократии» до сих пор готовы жертвовать небольшое число россиян, при этом многим из них истинная демократия представляется в категориях достатка.
Зарубежные исследователи, проанализировав опросы 2008 г., проведенные
PRC в год выборов президента России, пришли к выводу, что большинство россиян не считают постсоветскую Россию в полной мере демократической страной, причем вне зависимости от того, как они сами определяют демократию: 54% считают, что Россия не полностью демократическая страна, 18% затруднились ответить, 28% опрошенных считают Россию демократической [Hale 2011: 1361]. В то же время в 2008 г. число людей, верящих, что страна станет более демократической или, наоборот, не станет, разделилось почти поровну: 35% и 33% соответственно. Также были приведены данные, что доля тех, кто считает Россию демократической, была одинаковой в 1994 и 2003 гг. и составляла 35%, а в 1996 г. – всего 18% [Colton, Hale 2010: 12-13]. Из этих данных можно сделать вывод, что приход к власти президента В.В. Путина поднял статус демократии в стране. В 1994 г. население еще не успело полностью разочароваться в «лихой демократии», а с приходом нового президента благосостояние населения стало заметно расти, что позитивно сказалось на отношении к политическому и экономическому развитию государства. Из приведенных данных можно сделать вывод, что в 2008 г. более 60% населения считали, что Россия в скором времени станет или уже является благополучной страной в политическом и экономическом плане. Представляя оценки выборов 2007–2008 гг., Тимоти Колтон и Генри Гейл замечают, что только лишь 14% электората назвали выборы однозначно несправедливыми, в то же время в 2 раза больше людей считали наоборот. Но наиболее популярным было мнение, что эти выборы были чем-то средним между справедливыми и несправедливыми. По их мнению, это очередное подтверждение того, что россияне считали свой режим не совсем демократическим, но и не авторитарным [Colton, Hale 2010: 12-13]. В 2006 г. был сделан обзор того, как по 11-бальной шкале россияне оценивают российскую политическую систему, где 0 – полная диктатура, 11 – полная демократия. Получилось, что средний балл оказался равен 5,4, что располагается ровно посередине между демократией и диктатурой. На основе этого авторами был сделан вывод о том, что российский режим воспринимается людьми как гибридный [Rose, Mishler, Munro 2006: 128129]. К концу 2011 г. по данным PRC лишь 63% россиян были не удовлетворены тем, как в России работает демократия, что не отрицает того, что половина из них могла считать, что скоро демократия будет работать лучше, на что указывали Тимоти Колтон и Генри Гейл. Более того, стоит отметить, что этот же опрос показал, что в уже европеизированной Литве 72%, а на Украине более 81% были недовольны состоянием демократии 1 . Нельзя также не отметить, что многие зарубежные опросы и исследования были опубликованы в 2010–2011 гг., когда началась бурная деятельность российской оппозиции, поэтому необходимо учитывать их ангажированность политической элитой западных стран, которая поддерживала выступления против существующей российской власти, обвиняя ее в «закручивании гаек» и отступлении от демократии.
Современные российские опросы говорят о том, что к 2015 г. политически активное население стало более оптимистично смотреть на развитие страны. Исходя из имеющихся данных, большинство населения (51%) позитивно оценивают возможности дальнейшего развития России, тогда как лишь 18% настроены критически и треть опрошенных затруднились с ответом. При этом более 60% считают страну передовой и богатой, что более характерно, чем, например, политическая конкуренция, для представления о благополучном социально-политическом и демократическом развитии страны. По этим данным в общественном мнении политически активной части населения произошли позитивные изменения по сравнению с теми, которые приводят зарубежные опросы. Нельзя отрицать, что на волне кризиса, как и к началу 2009 г., благосостояние, а следовательно и положительные оценки перспектив социально-политического развития страны, скорее могут ухудшиться, но нельзя отрицать позитивный тренд. К 2015 г. доля людей, которые смотрят в будущее России с оптимизмом, увеличилась. Так, около половины лояльной аудитории Интернета (49%) полагают, что через 10 лет уровень жизни большинства российских граждан будет выше, чем сейчас, а уровень безработицы и коррупции останутся примерно на сегодняшнем уровне1. Кроме того, нельзя сказать, что большинство считают режим авторитарным. Для государства авторитаризм – не лучший способ управления, это определение обладает отрицательной коннотацией в обществе. Поэтому то, что лишь 18% критически оценивают будущее режима и его политику, а более 50% – положительно, дает право говорить о неприятии большинством населения понятия «авторитаризм» по отношению к российской действительности.
Неверно будет говорить, что население полностью удовлетворено политическим развитием страны, но называть режим авторитарным абсолютное большинство населения не решается, что подтверждают как российские, так и зарубежные опросы. Говоря об удовлетворенности существующей социально-политической реальностью, можно еще привести данные о желании людей покинуть страну: абсолютное большинство опрошенных (70%) исключают для себя возможность в ближайшие 10 лет уехать в другую страну на постоянное место жительства. Закономерно, что в большой степени отношение к перспективе покинуть Россию зависит от возраста респондентов: в группах 14–17-летних и 18–22-летних доли тех, кто допускает для себя возможность уехать, составили соответственно 22% и 21%, а в группах 36–40-летних и 41–50-летних – соответственно 10% и 7%. Это может объясняться тем, что молодые люди во всем мире, даже в благополучных западных странах, чаще хотят сменить обстановку и место жительства 2 . На основе опросов 2011 г. Генри Гейл заметил, что неудачные рыночные реформы породили в обществе ностальгию скорее по патернализму, а не авторитаризму, по адекватной социальной защите, а не жесткому режиму. Отказ от западной системы демократии – еще не отказ от других «брендов» демократии и уже сложившихся демократических институтов внутри страны [Hale 2011: 1361]. Приведенные им опросы PRC показывают, что на вопрос о том, должна ли Россия идти по демократическому пути, более 70% ответили: «да, должна» и более 60% утверждали, что демократия в целом – это «очень хорошо» и с ее помощью можно управлять страной, более 65% выступали за сохранение выборов и политических партий и др. Но при этом 26% ответили, что и демократия, и «сильная рука» – также хорошие способы управления Россией [Hale 2011: 1364]. Очевидно, что население, пострадавшее от ужасов «лихих 90-х», не хочет продолжения «безумной демократии» и стремится к твердой власти и экономическому благополучию, но не через утверждение нового авторитарного или «советского» режима, а путем установления социально ответственного патерналистского государства с четко выстроенными демократическими институтами и процедурами выборов этой власти. Более того, если говорить о существующем институте президентства, то анализ, приведенный Тимоти Колтоном, показал, что при президенте В.В. Путине население стало ощущать, что они стали жить свободнее, чем раньше [Colton, Hale 2010: 7]. Эта идея подтверждается цифрами, которые представлены Институтом фонда «Общественное мнение».
Профессора Т. Колтон и М. Макфол, бывший в 2012–2014 гг. послом США в РФ, в статье «Верно ли что русские не демократы?» утверждают, что демократизация российского общества в начале века шла быстрее, чем демократизация институтов. Рост благосостояния и сложившаяся выгодная многим система не давала выплескиваться этой демократической силе на улицу, и демократически настроенный слой был слаб [Колтон, Макфол 2001: 12]. Демократически настроенный слой для них, видимо, состоит из граждан, которые абсолютно недовольны современным развитием страны. Через 10 лет после написания этой статьи, в 2011–2012 гг., видимо, именно на этот слой рассчитывала российская оппозиция, организовывая митинги. Исходя из российских опросов, к 2015 г. в политически активной среде этот слой составляет лишь 18% населения. При этом стоит учитывать, что российское анкетирование, как уже отмечалось выше, проведено в политически активной, при этом идеологически неоднородной интернет-среде, что может завышать процент этого недовольства. Авторы также отмечают, что с течением времени само понятие демократии стало восприниматься иначе, люди стали считать, что гибрид советской системы, порядка и демократии (с ее политической конкуренцией, выборами и свободами) более выгоден. Кроме того, они писали, что в связи с тем, что идея западной демократия слаба, большинство готово признать, что советская «сильная» система была не хуже [Колтон, Макфол 2001: 3-5].
Многие на Западе сейчас голословно обвиняют российскую власть как раз в реинкарнации советских политических практик, но показанные выше цифры показывают поддержку такой системы большей частью общества, а для суверенного государства это является более важным, чем одобрение зарубежных партнеров.
Хотелось бы также отметить мнение зарубежных исследователей относительно влияния на общество отечественной концепции «суверенной демократии», которая была введена видным российским политиком Владиславом Сурковым. Суверенная демократия – это образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими [Сурков 2006]. Генри Гейл отмечал, что, несмотря на широкую пропаганду этой идеи, провозглашающей, что демократия основывается главным образом на национальном суверенитете и независимой политике государства, она слабо воспринимается обществом. Только 1% электората считают, что демократия соотносится с национальным суверенитетом, что даже меньше, чем 4%, которые охарактеризовали демократию как строй, связанный исключительно с проблемами, например бедностью или болезнями [Hale 2011: 1361]. Нельзя согласиться с автором, что эта идея была настолько непопулярна. Вопрос о соотнесении демократии и национального суверенитета в той форме, какой ее представляет Генри Гейл, безусловно, не так воспринимается обществом. Россия представляется большинству политически и экономически развитой страной, вероятно, не максимально приближенной к демократическому западному образцу, а со своими особенностями. Многие отмечают, что отношение к нам в последнее время резко ухудшилось (51%) и будет ухудшаться в дальнейшем (44%), не в последнюю очередь из-за независимой внутренней и внешней политики. У людей складывается образ России как развивающейся страны, к которой в мире относятся плохо как раз из-за ее богатства, силы и независимости 1 . Следовательно, нельзя согласиться, что населением не воспринимается идея независимой, суверенной политики как важной составляющей благополучного государства. Большинство населения видит Россию развитой в политико-экономическом плане страной, чья политика носит не зависимый от Запада характер, что вызывает большое внешнее давление. Вероятно, в общественном дискурсе нет четкого представления о том, что демократия соотносится с национальным суверенитетом, но в нем есть представление, что состоятельная и сильная, а потому правильная Россия всегда будет проводить независимую политику.
В опросе, в котором поднимался вопрос о том, к какой политической группе более всего себя относят люди (по 11-балльной шкале, где 0 – крайне левые, а 11 – крайне правые), оказалось, что средний балл получился 5,7, который показывает, что люди относят себя скорее к центристам. Тимоти Колтон называет это «мертвым центром» и, исходя из политических реалий, считает, что это скорее означает приверженность людей к стабильности, чем к радикальным реформам или потрясениям [Colton, Hale 2010: 6]. Зарубежные опросы общественного мнения чаще подтверждают гипотезы о том, что российский режим можно представить как гибридный. По их мнению, демократические черты в нем тесно переплетены с авторитарными. Общество находится между двумя политическими полюсами, не поддерживая ни жесткий национализм, ни левый поворот, ни лихие либеральные реформы, ни абсолютную власть одного или группы правителей. Возможно, в самой системе управления страной существуют различные политические практики, характерные как для западных демократических режимов, так и для стран с менее развитыми демократическими институтами. Но на данный момент, как уже было отмечено выше, большинство населения оценивает политическое развитие России и ее «демократичность» в положительном ключе, не собирается уезжать и считает, что путь ее развития – правильный и страну ждут благополучные времена. Вряд ли это может быть настроением страдающих от авторитаризма людей, для которых истинная демократия и правильное развитие страны – это в первую очередь увеличивающееся благосостояние, а не политическая конкуренция. Но полностью отметать зарубежное мнение нельзя, ведь их анализ исходит из западных представлений о «правильном» социально-политическом развитии страны, которые несколько отличаются от российских.
Таким образом, зарубежные исследования общественного и электорального дискурса относительно политического развития страны в постсоветский период обозначают две основные темы. Первая: россияне понимают демократию иначе, чем западные люди, – больше в категориях достатка, благосостояния, а не политической конкуренции, свободы и права; вторая: для России характерно развитие двойственной политической культуры, в которой соединяются различные политические практики, которые могут быть отнесены как к авторитарным, так и демократическим. Немаловажно, что население во многом поддерживает эту систему, пока она эффективно увеличивает благосостояние населения. Российские опросы многое из этого подтверждают, показывая при этом четкий позитивный тренд в настроениях людей. Политически активные россияне представляют страну развитой, богатой и развивающейся в правильном направлении, что характеризует их отношение к политической системе и ее развитию, к существующей в стране демократии как положительное, пусть оно и не совсем совпадает с западным образцом.
Список литературы Население России о политическом развитии страны: зарубежный взгляд и современные представления
- Колтон Т., Макфол М. 2001. Верно ли что русские не демократы? -Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. C. 1-14
- О’Доннел Г. 1997. Делегативная демократия. -Русский журнал. Доступ: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/Trebovaniya_k_oformleniyu_rukopisey.pdf (проверено 22.06.2015)
- Сурков В. 2006. Национализация будущего -Эксперт Online. № 43. Доступ: http://web.archive.org/web/20061205211300/http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego (проверено 22.06.2015)
- Colton T., Hale H.E. 2010. Russians and the Putin-Medvedev «Tandemocracy». -Problems of Post-Communism. Vol. 57. No 2. P. 3-20
- Hale H.E. 2011. The Myth of Mass Russian Support for Autocracy: The Public Opinion Foundations of a Hybrid Regime. -Europe-Asia Studies. № 63: 8. P. 1357-1375
- Rose R., Mishler W., Munro N. 2006. Russia Transformed: Developing Popular Support for a New Regime. Cambridge: Cambridge University Press. 238 p