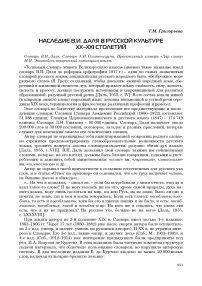Наследие В. И. Даля в русской культуре ХХ-XXI столетий
Автор: Григорьева Татьяна Михайловна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье изложены материалы, свидетельствующие о непреходящей роли словаря В.И. Даля в XX-XXI вв., о его влиянии на лексикографическую практику, которая стала воплощением замысла автора о необходимости пробуждения творческого потенциала русского языка.
Словарь в.и. даля, словарь а.и. солженицына, проективный словарь "дар слова" м.н. эпштейна, творческий потенциал языка
Короткий адрес: https://sciup.org/144153395
IDR: 144153395
Текст научной статьи Наследие В. И. Даля в русской культуре ХХ-XXI столетий
«Толковый словарь живаго Великорускаго языка» (именно такое название имел словарь В.И. Даля до реформы орфографии 1917 г.) – один из самых знаменитых словарей русского языка, энциклопедия русского народного быта, «безбрежное море русского слова» (Я. Грот); созданный, чтобы доказать: «живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной, разумной русской речи» [Даль, 1955, с. IV]. В его состав вошли живой (в широком смысле слова) народный язык; лексика письменной и устной речи середины XIX века, терминология и фразеология различных профессий и ремёсел.
Этот словарь по богатству материала превосходит все предшествующие и последующие словари. Словник Словаря Академии Российской (1806–1822) составляет 51 388 единиц; Словаря Церковнославянского и русского языка (1847) – 174 749 единиц; Словаря Д.Н. Ушакова – 90 000 единиц. Словарь Даля включает около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и разных присловий, которые служат для пояснения смысла его лексических единиц.
Автор словаря не ограничивал себя инвентаризацией «сокровищ родного слова», но стремился продемонстрировать словообразовательные возможности русского языка, «развить наперед законы словопроизводства, разумно обняв дух языка» [Даль, 1955, с. VIII]. В.И. Даль дополнял свой словарь такими им сочиненными словами, которые, на его взгляд, должны быть близки говорящим, годными к употреблению и заменить собой заимствования: « сглас » вм. « гармония », « ловкосилье » вм. « гимнастика » и др.
Автор не скрывал своей причастности к созданию естественных для русского уха слов, и в статье «Ответ на приговор» он сознавался, что его труд включает «слова, не бывшие доселе в обиходе»:
«…На что я пошлюсь, – писал он, – если бы потребовали у меня отчета, откуда я взял такое-то слово? Я не могу указать ни на что, кроме самой природы, духа нашего языка, могу лишь сослаться на мир, на всю Русь, но не знаю, было ли оно в печати, не знаю, где и кем и когда говорилось. Коли есть глагол: пособлять, пособить , то есть и посабливать , хотя бы его в книгах наших и не было, и есть: посаб-ливанье, пособление, пособ и пособка и пр. На кого же я сошлюсь, что слова эти есть, что я их не придумал? На русское ухо, больше не на кого» [Даль, 1955, с. LXXXVIII].
При жизни автора во 2-й половине XIX в. Словарь имел только 1-е издание: 1863–1866 гг. Через 17 лет (1880–1882) уже после смерти автора было осуществлено 2-е изд. («испр. и значит. умнож. по рукописи автора»). И ХХ в. не утратил интереса к Словарю. Его 3-е изд., также «испр. и значит. доп.» (Спб.; М., 1903–1909), и 4-е изд. (Спб., 1912–1914) как повторение предыдущего были предприняты под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. В этих изданиях была частично изменена структура подачи материала, что облегчило пользование словарем, но нарушило авторскую систему. В два последние издания Б. де Куртенэ введено не менее 20 000 новых слов, включая вульгарно-бранную лексику.
В советский период была осуществлена републикация 2-го изд. Словаря (М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955), а через 20 с лишним, лет к 175-летию со дня рождения В.И. Даля фотомеханическим способом с издания 1955 г. было напечатано тиражом 200 000 экз. следующее, последнее в советский период издание (М.: Русский язык, 1978).
В постсоветский период Словарь Даля обрел новое широкое дыхание. С небольшими промежутками вошли в культурную жизнь россиян его разные издания. В частности, в современной русской орфографии, что, по мнению издателей, позволит преодолеть известный психологический барьер (особенно у подрастающего поколения), мешающий включению его в сегодняшнюю практику. При наличии поисковой системы такой Словарь В. Даля может стать неиссякаемым источником цитат, образных выражений, поговорок русского народа в современной речи [Даль, 2005].
Все сказанное связано с фактом существования самого Словаря, который стал результатом огромной личной энергии, трудолюбия и настойчивости автора. Словарь, к сокровищам которого обращались А. Белый, В. Хлебников, С. Есенин и другие представители русской культуры. Однако есть и еще один аспект его великой значимости: он стал импульсом своеобразной лексикографической деятельности на рубеже ХХ–ХХI столетий. И сейчас можно говорить о 2-х ее векторах.
Первый вектор представляет «Русский словарь языкового расширения» А.И. Солженицына (М.: Наука, 1990). Это уникальный и удивительный в русской истории труд, который возник в результате ежедневной обработки Словаря Даля. Словарь Солженицына к настоящему времени выдержал три издания: 2-е изд. (М.: Голос, 1995) и 3-е изд. (М.: Русский путь, 2000). Кроме того, фрагменты 2-го изд. Словаря опубликованы в составе четвёртого тома романа «Раковый корпус» малого собрания сочинений А. Солженицына (М.: ИНКОМ НВ, 1991).
Что представляет собой «Русский словарь языкового расширения» и какова роль Словаря В.И. Даля в его создании? Ответ на этот вопрос найдем в предисловии самого А.И. Солженицына: «С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря – для своих литературных нужд и языковой гимнастики. Для этого я сперва читал подряд все четыре тома Даля, очень внимчиво и выписывал слова и выражения в форме, удобной для охвата, повторения и использования. Затем нашёл эти выписки ещё слишком громоздкими и стал из первой выжимки вытягивать вторую, а затем из второй третью. <…> Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишён их по своему южному рождению, городской юности, – и которые, как я всё острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словоупотребления и по холостящему советскому обычаю». Это определило основную задачу – «восполнить иссушитель-ное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему – особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка…; для всех, кто в нашу эпоху оттеснён от корней языка затёртостью сегодняшней письменной речи», – то есть создать «Словарь языкового расширения», или «Живое в нашем языке». Что значит «живое в языке» автор объясняет так: «не в смысле ''что живёт сегодня'', а – что ещё может, имеет право жить»; то, чему «грозит отмирание», что может получить в языке «освежённое новое значение».
Работая над Словарем языкового расширения, автор не ставил задачи представить по возможности полный лексикон языка. Он ориентировался на давний опыт Франции, где в начале XIX в. (Ш. Нодье и др.) была предпринята попытка восстановить старофранцузские слова, уже утерянные в XVIII в. В «Словарь языкового расширения» включены слова, которые не заслуживают «преждевременной смерти, 254
ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение – а между тем почти целиком заброшенные, существующие близко рядом с границей нашего изношенного узкого употребления, – область желанного и осуществимого языкового расширения».
Главное намерение автора – защитить русский язык от иноязычного порабощения. При этом он не безрассудный пурист. Он не против таких слов, как компьютер, лазер, ксерокс и других названий технических устройств, но если, считает он, «беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как '' уик-энд '', '' брифинг '', '' истеблишмент '' <...> '' имидж '', - то надо вообще с родным языком распрощаться».
«Словарь языкового расширения» противоположен обычному словарю, который исключает «всё недостаточно употребительное». В Словаре А. Солженицына выделяется именно оно. Кроме того, сюда включены слова из Словаря Даля как напоминание, «с некоторой оговоркой “иногда можно сказать” – хотя бы для редких случаев, хотя бы в художественных произведениях».
Многие включенные в Словарь авторские слова имеют право на существование: бабиться (вести себя по-бабьи), завековать (быть долго), заверти в голове, перево-лить (одолеть волей) и мн. др. Однако вряд ли носитель русского языка на рубеже XX–XXI столетий захочет включить в свой лексикон такие слова, как дрогливый (трясущийся), заватажить (втянуть в свою ватагу), заблукаться (заблудиться), надызбица (светёлка, теремок), начелыш (девичий головной убор) и др., однако, несмотря на это, сама попытка освободить язык от штампов и вернуть его в коренную струю заслуживает глубокого уважения. Она звучит как предостережение большого писателя в то время, когда русский язык год от года и даже день ото дня теряет свою первозданность и свежесть. Эта мысль А. Солженицына очень созвучна суждению М.И. Черемисиной, высказанному в почтовой дискуссии 1990 г.: «…Как ойкумена, обитаемая, охраняемая, жилая теплая земля, сжимается, подобно губке или шагреневой коже, и наступает на ее место непрорубаемая тайга…, вот так же, в моем ощущении, сжимается и УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ в русской РЕЧИ русский язык» (выделено авт.) [Караулов, 1990, с. 62].
Второй вектор лексикографической деятельности, который также можно считать наследием В.И. Даля, – еженедельный проективный лексикон русского языка «Дар слова», автором которого является М.Н. Эпштейн, филолог, философ, культуролог, эссеист, заслуженный профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США). Главная цель этого словаря, первый номер которого вышел 17 апреля 2000 г., – создавать новые слова по примеру словаря Даля, который представляет собой не только феномен словоописания, как обычный словарь, но и словопроизводства; то есть развивать корневую систему языка, используя существующие словообразовательные модели.
Вот рассуждения автора, объясняющие мотивы работы над словарем, изложенные в интервью газете «Невское время» (2011. 18 окт.).
Русский язык в пушкинскую эпоху вплоть до Октября 1917 г. динамично развивался, и русский лексикон шел наравне с английским. Оба насчитывали около 200 тысяч слов, однако изданный в 1934 г. словарь Вэбстера включал уже 600 тысяч слов, а самый полный для советской эпохи словарь Ушакова (1940) содержал лишь 90 тысяч слов. В настоящее время этот разрыв становится еще заметнее, а с вырождением языка, считает автор, «вырождается и наша жизнь, уходят эмоциональные оттенки, нравственные понятия, которыми изобиловал русский язык в XIX в.». Итог рассуждений: общество, лишенное языковой инициативы и не использующее «творческий потенциал своего языка, неизбежно обречено на духовный застой и деградацию»: «где нет воли к порождению новых смыслов, там нет и воли к порождению жизни», а «внесение новых понятий, грамматических структур способно больше изменить общественное сознание, чем построение еще одного нефтепровода или газопровода».
Приведем примеры проективных слов, которые демонстрируют творческий потенциал русского языка и могут пополнить его лексикон: « Совок » – слово, которое активно вошло в русскую речь; « Любля » – слово, которое также входит в употребление. Спектакль «Любля. Офисная любовь» (реж. Д. Изместьев) создан на основе современной поэзии (Тимур Кибиров, Андрей Орлов (Орлуша), Игорь Иртеньев) и выражает «обоюдные взаимоотношения любящих»; «Люболь» – драматическая любовь, любовь-боль; « Политикоз » (по модели «невроз», «психоз», «токсикоз», «лейкоцитоз», «варикоз») – это, как объясняет сам автор, склонность «преувеличивать значение политики, выводить из нее все содержание культуры и сводить к ней все цели человеческой жизни»; « Брехлама » – «реклама» + «брехня» + «хлам»; «Сло-весть» (слово + совесть) – слова в замену совести; чисто словесное выражение совести. (У него не совесть, а словесть. От совести одни хорошие слова остались.); « Пра-воделёж » – делёж правоты, распил не финансовых, а политических и моральных ценностей. Праводелёж – это такой идейный спор, в котором главное не выяснение истины, а утверждение своей правоты за счет других, увеличение своего морального капитала. Праводелёж – это бандитская разборка среди интеллигентных людей. Кому что причитается. Кто-то выходит окровавленный, но с почетным званием «просвещенного консерватора», а кто-то выносит, как трофей, звание «страдающего циника». И в конце концов все мирятся, продолжая ненавидеть друг друга. («Правое дело» быстро превратилось в праводелёж и праводелячество .)
Импульсом к созданию последних двух слов стала осознанная автором и утратившаяся в языке глубинная сущность слова «любовь»: любовь к Родине, любовь к детям, кино и т. д.
Проективный словарь М. Эпштейна «Дар слова» публикует словесные находки и изобретения других авторов, проводит дискуссии и конкурсы на лучшие односло-вия, обсуждает письма и предложения читателей. «Дар слова» может служить пособием по словотворчеству, введением в мир языковых фантазий и мыслительных технологий, прообразом Интеллектуального Словаря XXI в. В рамках словаря проводится конкурс «Слово года», в номинации «неологизмы» по результатам голосований 2011 г. первые два места присуждены предложенным на конкурс авторским словам, смысл которых не требует комментариев: извирАтельная (кампания, комиссия) – из опечаток в СМИ; распилокрАтия .
С равным числом голосов вышли в финал следующие слова: информАфия , или инфомАфия – «группа или институция, занятая сбором и распространением (дез) информации в корыстных целях (обогащение, власть и т. д.); москватизАция , 1) поглощение Москвой близлежащих населенных пунктов; 2) остоличивание провинциалов, временно или постоянно живущих Москве; 3) скупка московским бизнесом и состоятельными москвичами недвижимости в регионах; неврологИзмы – неологизмы нашего нервного времени и др.
В деятельности М.Н. Эпштейна есть еще один заслуживающий внимания момент. Он стал инициатором редкого замысла: как дань памяти великому лексикографу праздновать день его рождения (22 ноября) как «День словарей и энциклопедий». Это по примеру США, где День словарей отмечается ежегодно 16 октября в день рождения Ноя Вебстера, основоположника серии словарей американского варианта английского языка. В этот день в американских школах проводят уроки, где рассказывают о разных типах словарей, учат пользоваться ими и таким образом работают над пополнением словарного запаса учащихся и формируют культуру работы со словарем. Почему словарю оказывается такая честь? Потому что сло- варь, по мнению М. Эпштейна, – это не просто лексический состав языка; «это срез нашего языкового сознания».
Нельзя не заметить, что праздник этот постепенно утверждается в России. Многие школы и вузы, библиотеки и книжные магазины каждый на свой манер приобщаются к этому событию.
Нельзя обойти вниманием и еще один вектор наследия В.И. Даля на рубеже XX–XXI вв. – музей, который имеет статус исторического памятника федерального значения: 123242, Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6. Он был открыт в 1986 г. в доме, где выдающийся русский лексикограф провел последние 13 лет жизни (1859– 1872). Его наследием является посаженная им вблизи дома лиственница, которая жива до сих пор.
И в завершение вернемся к словарю В. Даля, о котором акад. Я.К. Грот сказал, что к нему «будут обращаться все, кому нужно изучать с какой бы то ни было стороны народную жизнь», что он должен «сделаться настольною книгой всякого, кто вдумывается в родной язык, кто хочет короче узнать его богатства» [Грот, 1885, с. 57]. Помимо этого, невозможно не вспомнить и другие слова академика:
«Словарь Даля – книга не только полезная и нужная, но и занимательная… Всякий любитель отечественного слова может читать её или хоть перелистывать с удовольствием… Сколько найдет в ней знакомого, родного, любопытного, назидательного! Сколько вынесет из каждого чтения сведения драгоценные и для житейского обихода, и для литературного дела» [Там же].
«В труде Даля нас поражают два личные достоинства автора, без которых он не мог бы и выполнить своей задачи: это прежде всего энергическая настойчивость и упорное постоянство в преследовании цели, не только при окончательном осуществлении плана, но и при подготовительном, многолетнем собирании материалов. Другим важным условием для совершения такого обширного труда было скромное сознание автором меры своих сил и той доли пользы, какую он мог принести русскому слову» [Там же, с. 58].
«В рассмотренном словаре мы видим смелую попытку охватить безбрежное море русского слова. Можно с уверенностью сказать, что никакой другой труд не был бы приветствован самим Ломоносовым с такою задушевною радостью, как именно словарь, поставивший себе задачей обнять все неисчерпаемое богатство родного языка и содействовать чистоте его» [Там же, с. 60].
И это вне всякого сомнения актуально для нашего времени: созданный в середине XIX в., чтобы направить русский язык «в природную его колею, из которой он … соскочил, как паровоз с рельсов», словарь и полтора столетия служит всем, кому дорог родной язык, уникальный и единственный инструмент мысли, одна из важных основ жизни нации, её единства и самосохранения. Он звучит как предостережение не потерять созидательный дух родного языка и как призыв обратиться к собственным его корням.