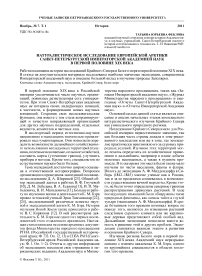Натуралистическое исследование европейской Арктики Санкт-Петербургской императорской академией наук в первой половине XIX века
Автор: Феклова Татьяна Юрьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (120) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
Академия наук, экспедиции, крайний север, белое море
Короткий адрес: https://sciup.org/14749991
IDR: 14749991
Текст статьи Натуралистическое исследование европейской Арктики Санкт-Петербургской императорской академией наук в первой половине XIX века
В первой половине XIX века в Российской империи увеличивается число научных организаций, появилась разветвленная сеть университетов. При этом Санкт-Петербургская академия наук не потеряла своих лидирующих позиций, в частности, в формировании новых научных концепций. Сохранив свои исследовательские функции, она вместе с тем стала координирующей и зачастую направляющей организацией для других научных подразделений, отдельных ведомств, комитетов и частных лиц.
В исследуемый период естественно-научное направление в экспедициях значительно превалировало над гуманитарным. Они позволяли определить возможности дальнейшего хозяйственного использования исследуемых территорий (пушнина, полезные ископаемые, сельское хозяйство), составить карты (уточнение границ), улучшить приборы и методы. Кроме того, специалистов по естественным наукам было больше.
Тема экспедиций достаточно широко освещена в отечественной историографии. Вопросам организации и проведения экспедиций посвящено исследование Д. А. Шириной [23]. Общий обзор экспедиций дается в работах В. Ф. Гнучевой [10], Д. М. Лебедева, В. А. Есакова [13], И. П. Магидовича, В. И. Магидовича [15]. Большую работу по изучению жизни и деятельности К. М. Бэра провел эстонский ученый Эрки Таммиксаар [22], [24], исследовавший различные аспекты научной и экспедиционной жизни К. М. Бэра. История изучения Новой Земли также приводится в работе В. С. Корякина [12]. В ней рассмотрена деятельность К. М. Бэра как одного из первых исследователей этого отдаленного архипелага. Настоящая статья написана на основе архивных документов фонда Министерства народного просвещения РГИА (Российский государственный исторический архив; Ф. 733. Оп. 12, 13) и СПбА РАН (Санкт-Петербургский архив Российской Академии наук; Ф. 1. Оп. 1–2). Отчеты и другая информация об экспедициях находили свое отражение в периодических изданиях Академии наук и Минис- терства народного просвещения, таких как «Записки Императорской академии наук», «Журнал Министерства народного просвещения» и ежегодные «Отчеты Санкт-Петербургской Академии наук» и «Отчеты Императорской Академии наук».
Основной целью данной статьи является описание и анализ начальных этапов комплексного натуралистического изучения Крайнего Севера как уникального природного региона.
Исследование Крайнего Севера имело для Российской империи первостепенное значение, так как большая часть страны лежала в зоне рискованного земледелия или же в зоне, где земледелие практически невозможно из-за суровых природных условий. Изучение этих территорий могло помочь определить их хозяйственное применение в дальнейшем, например в плане добычи полезных ископаемых, а также в пушном промысле. В то же время эти места были также мало изучены по части населения, фауны и флоры. Вплоть до экспедиции А. Ф. Миддендорфа в Сибирь (1842–1845) многие ученые как в России, так и за ее пределами сомневались в возможности существования вечной мерзлоты. Кроме этого, не были точно определены северные границы распространения древесных растений. В ходе последующих изысканий были обнаружены такие природные феномены, как оазисы тайги в глухой тундре (экспедиция А. Ф. Миддендорфа). В среде ботаников того времени возникал вопрос по поводу того, являются ли изменения растений следствием сурового климата или же карликовые деревья представляют собой особый вид. Дальнейшие экспедиции позволили внести ясность в решение этой и других проблем. Экспедиции становятся важным этапом в развитии и освоении Крайнего Севера.
Изучение региона Белого моря в первой половине XIX веках Академией наук неразрывно связано с именем академика К. М. Бэра, одного из крупнейших специалистов в области зоологии того времени.
В начале 1837 года К. М. Бэру стало известно о попытках капитан-лейтенанта, гидрографа и астронома М. Ф. Рейнеке добиться разрешения на снаряжение экспедиции для описания Новой Земли. Начальник Морского штаба А. С. Меншиков отложил отправление экспедиции. После его отказа К. М. Бэр и Ф. Ф. Брандт через Академию наук обратились с письмом к министру народного просвещения С. С. Уварову [2]. В своем послании они настаивали на необходимости исследования Новой Земли в зоологическом и ботаническом отношении, приводя в качестве аргумента то, что Гренландия, Шпицберген и другие северные территории зарубежных стран достаточно полно изучены и только северное побережье России совсем еще не обследовано [17]. К. М. Бэр также представил С. С. Уварову свое мнение о кандидате на должность командира исследовательского судна. Им должен был стать А. К. Циволько (прапорщик Корпуса флотских штурманов), совершивший плавание с П. К. Пахтусовым (гидрограф, русский мореплаватель) для описания Новой Земли в 1836 году.
13 марта 1837 года министр народного просвещения С. С. Уваров обратился к начальнику Морского штаба А. С. Меншикову с просьбой дать разрешение прапорщику А. К. Циволько принять на себя командование шхуной «Кротов» и заведование снаряжаемой от Академии ученой экспедицией [17]. Все предполагаемые издержки Академия брала на себя. А. С. Меншиков изъявил согласие на отправление этой экспедиции, и С. С. Уваров приказал подготовить подробный план путешествия и составить смету расходов. Общие затраты на экспедицию по смете, утвержденной министром народного просвещения, составили 9385 рублей.
Ввиду особой значимости этой экспедиции от Н. И. Огарева, военного губернатора Архангельской губернии, к которой была приписана и Новая Земля, К. М. Бэру было предоставлено открытое письмо, согласно которому «предъявитель сего К. М. Бэр, заведующий ученою частию снаряженной с Высочайшего соизволения Императорской С.-Петербургской академией наук экспедиции к берегам Лапландии и Новой Земли, оправляется отсюда на лодке “Николай” вместе со студентом Дерптского университета А. Леманом и препаратором Зоологического музея Е. Филипповым. Предписывается всем градским и земским полициям, равно и сельским начальствам Архангельской губернии, оказывать им всякое в случае надобности вспомоществование» [7; 149 об.–150].
Кроме К. М. Бэра, А. Лемана и Е. Филиппова в состав экспедиции входили художник Петербургского монетного двора Х. Р. Редер и служитель Дронов. Прапорщик А. К. Циволько прибыл в Архангельск для осмотра и ремонта шхуны 24 апреля. 6 июня в Архангельск прибыл Бэр, ко- торый после знакомства со шхуной нашел ее слишком тесной не только для размещения собранных коллекций и образцов, но также и для исследователей. Поэтому К. М. Бэр нанял у архангельских промышленников А. Еремина и И. Че-люзгина промысловую ладью «Святой Елисей», на которой он и разместился вместе с А. Леманом. Для ловли образцов рыб и зверей К. М. Бэр взял с собой сети, невода и другие приспособления [19; 94]. В начале июля шхуна и ладья достигли Лапландии и бросили якорь около деревни Пяли-цы, где путешественники нашли несколько ранее не известных видов лишайников, которые местами угрожали вытеснить высшие растения. 19 июля исследователи вошли в пролив Маточ-кин Шар, и К. М. Бэр вступил на Новую Землю. За время пребывания в проливе К. М. Бэр вместе со спутниками совершил ряд поездок для обследования западного устья залива в ботаническом, зоологическом и геологическом отношениях. Были исследованы и описаны бухта Серебрянка, возвышенность Митюшев Камень, реки Маточка, Чиракаха и др. [1; 9–10].
6 августа путешественники высадились на юго-западном побережье Новой Земли, в устье р. Нехватовой [17; 205]. К. М. Бэр занимался изучением соленых озер, возникающих, скорее всего, в результате приливов, а натуралист А. Леман исследовал геологическое строение окрестностей Костиного Шара. Вскоре, однако, начались морозы [4; 39]. 11 сентября экспедиция была вынуждена вернуться в Архангельск.
Возвратясь в октябре в Санкт-Петербург, К. М. Бэр на заседании Академии наук, проходившем 3 ноября, сообщил, что из десяти прежних экспедиций, предпринятых флотскими офицерами, шесть либо имели повреждения судов, либо потери в команде. Но и остальные четыре экспедиции встретили на пути столько препятствий, что до конца не выполнили поставленных перед ними целей [14].
По сути, это была первая научная экспедиция на территорию Новой Земли. Естественно, что до К. М. Бэра этот район посещали и промысловики, и экспедиции, посланные Морским ведомством для изучения Северного морского пути. Но комплексное исследование К. М. Бэра позволило проанализировать и во многом обобщить данные, полученные во время плавания П. К. Пахтусова, и заложить основы климатологии Новой Земли, которая была исследована в топографическом, геологическом, ботаническом и зоологическом отношениях [18; 67]. Именно эта экспедиция дала основной массив знаний об этом регионе, которые мы имеем сейчас. Достаточно упомянуть о том, что из 160 известных ныне видов растений Бэр исследовал 135, он дал научное описание большого количества птиц, рыб и животных, обитающих около Новой Земли; привез 70 видов беспозвоночных, в то время как ан- глийский полярный исследователь В. Скоресби привез со Шпицбергена всего лишь 37. А. А. Леман представил в Академию наук сочинение, посвященное исследованию геологии Новой Земли [9]. Экспедиция К. М. Бэра на Новую Землю представляет собой первую попытку приближения к современному комплексному эколого-морфологическому методу изучения территорий [16; 215].
Изучение арктической флоры стало одной из знаменательных страниц в истории российской ботаники. Нигде в мире нет такого количества материала, накопленного в результате многолетних экспедиций [20; 3]. Одной из самых известных экспедиций было путешествие ботаника А. И. Шренка в Печорский край для собирания ботанической коллекции.
Из Санкт-Петербурга А. И. Шренк отправился в Мезень, которую вместе со спутниками покинул 19 мая 1837 года. Там он изучал геологию, быт населения, промыслы. Через месяц путешественники прибыли к Печоре, в Усть-Цильму. Оттуда А. И. Шренк отправил в Петербург собранные на тот момент коллекции и гербарий.
Фактически А. И. Шренк был первым ученым, достигшим крайнего северо-востока Европейской России. Он изучал районы Большеземель-ской и Малоземельской тундр, Канина Носа и Югорского Шара, о . Вайгач и Полярного Урала. Несмотря на то что его экспедиция планировалась как ботаническая, А. И. Шренк собирал этнографические материалы, составлял словарь ненцев и коми (зырян), занимался физико-географическим исследованием этих районов. После экспедиции Шренк опубликовал двухтомный труд «Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов к Северным Уральским горам», в котором проанализировал полученные им данные. В частности, он определил границы ареалов распространения древесной растительности в северо-восточной части Архангельской губернии. В то же время А. И. Шренк постарался дать советы по развитию Крайнего Севера. Он наметил орографические (раздел геоморфологии, занимающийся описанием и классификацией форм рельефа по их внешним признакам вне зависимости от происхождения) и гидрографические особенности страны; правильно нанес на карту бассейны рек Печоры и Усы. За 12 дней А. И. Шренк проделал путь от с. Ок-сино на р. Печоре через пос. Поповых по р. Ин-диге до р. Пеши. Изучение тундры и подземной ледяной коры А. И. Шренком незадолго до экспедиции А. Ф. Миддендорфа позволило ему выступить против мнения о тундре как о заболоченном, труднопроходимом месте. Он отметил, что в тундре присутствуют различные виды почв (песчаная, глинистая) и в зависимости от грунта глубина протаивания мерзлоты тоже различна. С помощью шурфов он определял глубину зале- гания и мощность вечной мерзлоты. А. И. Шренк описал особенности приспособляемости растений к суровым условиям Севера: карликовость деревьев и расстилание по земле мхов. Он объяснял это сильными холодами, сопровождаемыми ветрами [8; 576]. Ученый собрал ряд ботанико-географических данных, касающихся распространения к северу отдельных древесных пород и лесных остовов [11; 11]. Выделенные А. И. Шренком пять зональных областей по своему содержанию и объему очень близки к границам подзон у современных ботаников. А. И. Шренк привел названия 265 растений и сделал гербарии, переданные им в Ботанический сад Академии наук.
В 1839 году после окончания путешествия А. И. Шренка на север европейской части России К. М. Бэр обратил внимание Академии наук на то, что из сферы внимания ученых упущена Русская Лапландия. Об этом же он писал П. И. Кеп-пену [3; 32]. Во время своего путешествия на Новую Землю К. М. Бэр проезжал через Лапландию, но не уделил ей должного внимания [5; 16]. Во время полярных плаваний Ф. П. Литке (1821– 1824) и М. Ф. Рейнеке (1827–1832) была произведена съемка ее берегов, но животный и растительный мир остался за пределами изучения, как, впрочем, и геология внутренних частей Лапландии. К. М. Бэр советовался с В. Бетлингком, молодым геологом и геогностом из Дерпта, относительно времени предполагаемого путешествия. Последний дважды путешествовал по Финляндии для исследования ее геологического состояния и в 1839 году планировал расширить свои изыскания и на Лапландию, вплоть до Архангельска. К. М. Бэр предложил, чтобы В. Бетлингк, а также А. И. Шренк в качестве биолога отправились в экспедицию в Русскую Лапландию. А. И. Шренку поручалось собрать сведения о разведении хлебных растений и домашних животных. Путь исследователей лежал через Гельсингфорс, Торнео, р. Кемь, Нотоозеро к г. Коле. Здесь они расстались. А. И. Шренк отправился на восток от Кольского залива, а В. Бетлингк – на запад. На экспедицию В. Бетлингка Академия наук ассигновала 3000 руб. [5; 16 об.]. Бетлингк посетил восточное побережье Лапландии. Он встретился с А. И. Шренком позднее, у р. Поной. Вместе они осмотрели растительность и горные породы на южном берегу Кандалакшского залива. Южный берег имел более густую растительность, нежели северный, где часто встречались скалы, отполированные приливами. Ближе к югу участники экспедиции пересекли водораздел между Онежским озером и Белым морем, представляющий песчаный хребет высотой около 45 метров. По мнению В. Бетлингка, на этом месте легко было бы провести канал для соединения Белого и Балтийского морей.
В октябре 1839 года А. И. Шренк и В. Бетлингк вернулись в Петербург. В результате этой экспе- диции были получены ценные данные о пределе распространения лесов на севере европейской части России. Впоследствии известный ботаник Ц. Кох, исследовавший Крайний Север европейской части России, назвал в честь А. И. Шренка морской подорожник (Plantago schrenkii) [20; 52].
Природа Крайнего Севера предоставляет ученым уникальную возможность изучить приспособление растений и животных к суровым условиям. В первой половине XIX века шло планомерное исследование окраинных территорий Российской империи, рассматривались возможности их дальнейшего хозяйственного использования. Кроме того, русские ученые опровергли мнение, бытовавшее в научной среде Европы, о невозмож- ности существования вечной мерзлоты. Ученые как в Европе, так и в России имели мало сведений о тундре, о ее флоре и фауне. Исследователи выяснили, что тундра вовсе не представляет собой непроходимые болота, крайне бедные растительностью и животными, наоборот, является хрупким сбалансированным миром, отличающимся многообразием. Благодаря экспедициям, совершенным русскими учеными под эгидой Императорской академии наук, общемировая копилка знаний пополнилась достоверными сведениями о природе территории, лежащей за полярным кругом. Работы русских ученых положили начало современным методам и методикам комплексных исследований растительного и животного мира Крайнего Севера.
Список литературы Натуралистическое исследование европейской Арктики Санкт-Петербургской императорской академией наук в первой половине XIX века
- Записки гидрографического департамента морского министерства. Ч. 3. СПб.: Морская типография, 1845. 448 с.
- Летопись Российской Академии наук: В 3 т. Т. II. 1803-1860. СПб.: Наука, 2002. 620 с.
- Письма К. М. Бэра ученым Петербурга. Л.: Наука, 1976. 252 с.
- Свенске К. Ф. Новая Земля в географическом, естественно-историческом и промышленном отношениях. СПб.: Изд-во на иждивении члена-соревнователя Русского географического общества М. К. Сидорова, 1866. 131 с.
- СПбА РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Экспедиция в Лапландию академика К. М. Бэра.
- СПбА РАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 347. Материалы по организации экспедиции на Новую Землю.
- СПбА РАН. Ф. 129. Оп. 1. Д. 350. Смета на путешествие, доложена в заседании Конференции 7 апреля 1837 г. С прило-жением различных отчетов, расписок и записей расходов К. М. Бэра.
- Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов в 1837 г. СПб.: Тип. Г. Тру-сова, 1855. 665 с.
- Lehman A. Geognostische Schilderung von Nowaja Semlja. Saint-Petersburg, 1837.
- Гнучева В. Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв. М.; Л.: Академия наук СССР, 1940. 310 с.
- Дедов А. А. Растительность Малоземельской и Тиманской тундр. Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 2006. 159 с.
- Корякин В. С. История изучения природной системы Новой Земли (до середины XX века): Автореф. … д-ра геогр. наук. М., 2000. 54 с.
- Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и исследования. М.: Мысль, 1971. 516 с.
- Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821-1824 гг. М.: Географгиз, 1948. 335 с.
- Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. М.: Просвещение, 1985. 319 с.
- Назаров А. Г., Цуцкин Е. В. Карл Максимович Бэр. М.: Наука, 2008. 538 с.
- Пасецкий В. М. Русские открытия и исследования в Арктике. Первая половина XIX века. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 275 с.
- Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина. Т. 2. М.; Л., 1951.
- Русские экспедиции для описания берегов Сибири и прилегающих островов. 1734-1862. Кронштадт, 1877. 117 с.
- Секретарева Н. А. Сосудистые растения Российской Арктики и сопредельных территорий. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2004. 137 с.
- Смирнов В. Г. Исследования Мирового океана военными моряками и учеными России. 1826-1895 гг. СПб.: Изд-во Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, 2006. 292 с.
- Таммиксаар Э. Географические аспекты творчества Карла Бэра 1830-1840 гг. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastuse, 2000. 125 с.
- Ширина Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-востоке Азии в дореволюционный период. Новоси-бирск: Наука, 1983. 274 с.
- Findbuch zum Nachlass Karl Ernst von Baer (1792-1876)/Nach Vorarbeiten von Vello Kaavere; Eingel., bearb. u. zusgest. von Erki Tammiksaar. Giessen: Universitetsbibl., 1999.