Научная психология в век глобализации
Автор: Мазилов Владимир Александрович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основополагающие методологические проблемы современной психологии. Утверждается, что их нерешенность тормозит поступательное развитие психологической науки. В частности, психология не может адекватно реагировать на вызовы современности в условиях глобализации, пока не будет определен статус этой науки и ее место в классификации наук. Отмечается, что психологи уклоняются от обсуждения проблемы определения положения психологии в системе научного знания, создается впечатление, что самоидентификация психологии для психологов не так важна. Отстаивается тезис, что психология имеет свою специфику. Подчеркивается, что положения, сформулированные в философии науки применительно к естественным или социально-гуманитарным наукам, неприложимы к психологии без своего рода адаптации. Утверждается, что психология не должна утрачивать идеалов, прослеживаются условия, необходимые для становления психологии в качестве фундаментальной науки. Отечественная психология должна сохранить свое неповторимое своеобразие, которое определяется, в частности, представлениями об идеалах науки. Подчеркивается, что речь не идет о каком-либо изоляционизме. Скорее, позицию отечественной психологии следует рассматривать не как изоляционизм, а как диалектическое проявление интеграции и дифференциации.
Психология, наука, глобализация, интеграция, идеал науки, философия науки, философия психологии
Короткий адрес: https://sciup.org/148321091
IDR: 148321091 | УДК: 159.9.01 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.07.P.48
Текст научной статьи Научная психология в век глобализации
ва. Во всяком случае, три тома его изысканий по проблеме классификации наук вызывают уважение к проделанной скрупулезной работе. Все хорошо помнят про «треугольник» Б. М. Кедрова: «Психология, которая связана и с естествознанием, и с философией, и с общественными науками, оказывается на этой схеме в особом положении. Чтобы отразить все существующие связи, Кедров изображает ее не на самом круге наук, а внутри круга и треугольника. С естественными науками психология связана через учение о высшей нервной деятельности и зоопсихологию, с общественными – через социальную психологию, с философией – через изучение мышления» [11, с. 73].
Собственно, на каждом этапе развития науки представления о взаимоотношениях наук изменялись, что фиксировалось в разрабатываемых классификациях, так что ничего удивительного в изменении трактовки нет. Представляется, что сейчас психологию к социально-гуманитарным наукам отнесли не на основе специальных исследований, а из соображений дидактических: когда в аспирантуре ввели курс по истории и философии науки, такое деление кому-то показалось удобным. Хотелось бы понять, почему раньше тем же Кедровым проводились тщательные исследования, а теперь вопрос решается росчерком пера. Но куда хуже другое: уважаемые члены на- учного психологического сообщества такую идентификацию приняли и пытаются ей соответствовать. Кстати, по этой логике получается, что такие респектабельные отрасли психологии, как психогенетика, зоопсихология или нейропсихология, относятся к социально-гуманитарному знанию.
Автор интересной работы по проблеме места психологии в системе наук А. А. Федоров с присущим ему юмором отмечает: «Поиск психологией своего места в системе научного знания – это история метаний, порой драматических, порой комичных. Наша наука похожа на мяч, которым вот уже на протяжении более чем двухсот лет перекидываются волейбольные команды ″ физиков ″ и ″ лириков ″ . В конце концов, мяч, видимо, устав, решил зависнуть над сеткой... Это подвешенное состояние мы – психологи, великолепные мастера рационализации! – теперь называемым центральным» [там же, с. 3].
Разумеется, в рамках небольшой статьи нет возможности обсудить эту проблему в сколь-нибудь широком формате, поэтому ограничимся лишь некоторыми замечаниями. Обзор подходов к классификации наук и определения места психологии можно найти в уже упоминавшейся работе А. А. Федорова.
Свой анализ подходов к классификации наук А. А. Федоров заключает следующим образом: «Долгие блуждания со всей очевидностью показали, что положение психологии в системе научного знания – одна из ключевых проблем психологической науки, неразрывно связанная с вопросом о ее предмете и внутренней структуре. С одной стороны, отсутствие ясного и общепринятого определения предмета психологии, конституирующего науку, оставляет открытым вопрос о ее междисциплинарных связях. С другой – особое место современной психологии среди наук – центральное, как считают некоторые, – создает дополнительные трудности на пути установления сущности психоло-
гического знания. И если мы хотим знать, в чем заключается сущность психологической науки, нам придется ответить и на вопрос, какое место она занимает в системе наук. А иначе блуждать нам еще не одну сотню лет...» [там же, с. 93].
К блужданию и обсуждению идеи финальности/незавершенности психологии мы еще вернемся на страницах этой статьи. Не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто вопросы, связанные с классификацией наук и определением места психологии в структуре научного знания, имеют чисто абстрактное научное значение. От той или иной самоидентификации психологии зависит, как она будет реагировать на вызовы современности.
Отметим, что различные науки по-разному откликаются на вызовы, связанные с интеграцией. Если в естественных науках заметна тенденция к унификации, то для наук гуманитарного профиля процессы интеграции существенно осложняются выраженной «культурной опосредованностью» как со стороны предмета, так и со стороны субъекта исследований [5]. Если еще
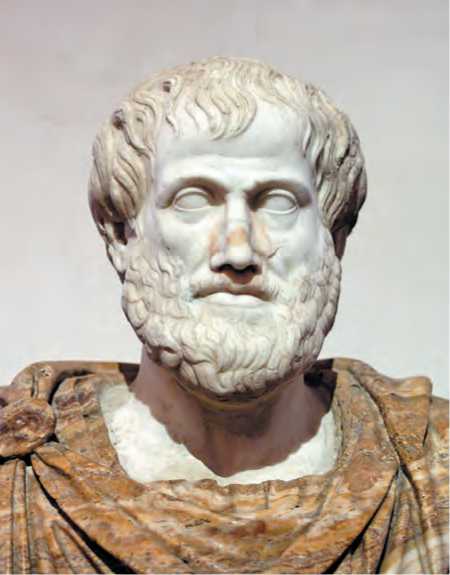
Аристотель Стагирит
четверть века назад можно было говорить о глобализации как об общем распространении в мире западных культурных стандартов и норм, то сегодня стало очевидным, что такое представление является несостоятельным. Ведущей чертой глобализации становится возникновение многополюсной мировой системы и рост культурного разнообразия [5].
Для психологии движение к глобализации по-разному протекает в различных регионах и в существенной степени оказалось окрашенным «протестными» тенденциями сопротивления гегемонии западноцентрического мейнстрима, в котором после Второй мировой войны доминировала американская традиция [там же, с. 58]. Таким образом, можно утверждать, что решение вопроса о месте психологии среди других наук определяет стратегию ответов на вызовы современности. Точнее, должно определять, так как психологи в большинстве своем уклоняются от обсуждения этих важнейших вопросов.
К проблеме глобализации в целом мы в настоящем тексте еще вернемся. Пока подчеркнем лишь один момент: очень важно понять, кто будет решать такие жизненно важные для научной психологии вопросы, как ее место в системе наук, осмысление ее текущего статуса, та или иная трактовка предмета.
Вообще-то говоря, надо заметить, что такими общими вопросами статуса наук должна заниматься философия и эпистемология науки. Как мы видели, психологи не проявляют особенного стремления разобраться с местом психологии среди других дисциплин.
Обратимся к философии науки. В настоящем тексте будут обсуждаться лишь некоторые современные тенденции взаимоотношений между философией науки и психологией. Заметим, что в разные временные промежутки отношения между психологией и философией науки были отчетливо различны: И. Г. Фихте, к примеру, психо- логию откровенно не любил, тогда как Дж. С. Милль всю свою «Систему логики» (1843) мыслил всего лишь как введение к VI книге своего труда «Логика нравственных наук» и попутно обосновывал необходимость существования психологии как отдельной науки... Поэтому расхождение или сближение психологии и философии науки не должно удивлять. Ничего трагического не происходит: и философия науки, и психология себя прекрасно чувствуют. Представляется, что от нынешнего нарушения взаимопонимания философия науки теряет больше, так как упускает (надеемся, только пока) возможность проанализировать уникальную ситуацию грядущего интенсивного развития психологической науки и ее становление как подлинно фундаментальной науки.
Наша задача – попытаться понять, почему сложилась эта ситуация, когда философия науки не интересуется психологией. (Необходимо отметить, что общие оценки очень часто оказываются не вполне справедливыми. Среди философов науки были и есть специалисты, которые активно интересовались положением дел в психологии. Можно назвать таких ученых, как Э. Г. Юдин, В. А. Лекторский, Н. В. Ретюнских и др. Мы говорим об общей тенденции, в этом случае отдельные исключения лишь подтверждают ее наличие.)
Обратимся к некоторым принципиальным установкам философии науки.
-
1. Философия науки исходит из того, что за образец науки принимает концепции естественных наук. Здесь, впрочем, мы не видим ничего нового. Естественнонаучное знание традиционно считается наиболее развитым, совершенным, и неявно эта модель принимается за общую – за модель науки в целом. Подавляющее большинство исследований в философии науки выполнено на основе физики, астрономии, химии, биологии и родственных им наук. Констатиру-
- ем, что «Большая философия науки» (философское направление, которое избирает своей основной проблематикой науку как эпистемологический и cоциокультурный феномен; напомним, это специальная философская дисциплина, предметом которой является наука) исходит из приоритета естественных наук, которые и являют образец науки в целом.
-
2. Философия науки исходит из того, что естественные науки сложны. В качестве демонстрации обычно предлагается осмыслить известный феномен корпускулярно-волнового дуализма и принцип дополнительности Н. Бора. Никто не будет спорить – это действительно и по-настоящему сложно. Но, с другой стороны, полезно обратить внимание, что в случае психологии ситуация не только не проще, чем в физике, но во многом сложнее. Поясним это, поскольку часто сложность психологического исследования в полной мере не осознается.
-
3. Философия науки и весьма специфически определяет и развитие науки. Двадцатый век прошел в полемике между сторонниками кумулятивной модели развития и ее противниками. Действительно, было показано, что в науке имеют место перерывы постепенности, скачки, научные революции. Отметим, что вопрос о кумулятивиз-ме достаточно сложен. Представляется, что в пылу дискуссий позиции противоборствующих сторон оказались, чего и следовало ожидать, полемически заостренными. Навер-
- ное, ни в какой области знания нет абсолютного кумулятивизма, где бы новые данные лишь спокойно наслаивались и дополняли друг друга, равно как трудно себе представить науку, в которой наблюдаются исключительно революции и перманентные перерывы постепенности. Но мы должны хорошо представлять себе характер накопления данных в той или иной науке. Опять же отметим, что наличие научных революций в некоторых науках не означает того, что в других науках дело обстоит так же. Короче говоря, ситуация классическая: неоправданные обобщения, которые делаются при отсутствии специальной проверки.
Итак, полезно помнить, что человек, участвующий в психологическом исследовании в качестве испытуемого, обладает сознанием. Следовательно, он имеет возможность рефлексии, поэтому исследование это не только «субъект-субъектное» взаимодействие, но и, возможно, рефлексивная игра. Была бы мотивация. Отметим, что эта ситуация хорошо описана и проанализирована в научной фантастике. Однако хорошо известно, что человек, будучи сознательным существом, очень часто поступает нерационально. Причем это явно закономерность. До такой степени, что ученые, осознавшие этот факт и проанализировавшие причины такого поведения человека, заслуженно получили Нобелевскую премию.
Относительно сложности психологии: перечисление осложняющих обстоятельств только начинается. Со времен З. Фрейда известно, что между сознанием и бессознательным существуют сложные отношения, причем часто поведение определяется в конечном счете от- нюдь не сознанием. И опять же, существуют защитные механизмы, модифицирующие поведение индивида... Со времен К. Юнга хорошо известно, что сознательные тенденции обязательно компенсируются неосознаваемыми... К тому же Э. Берном прекрасно показано, что один и тот же человек может находиться в различных субъективных состояниях и, что тоже важно, переходить из одного в другое.
Кажется, ясно, что в психологии дело обстоит более сложно, чем в естественных науках, можно не продолжать. Мы и не станем продолжать, только обратим внимание, что принципиально по-другому обстоит дело в психологии и с детерминацией: психические явления зависимы и от наследственных генетических программ, и от средовых воздействий, от социокультурных влияний, они модифицируются с помощью определенных химических веществ и т.п. Иными словами, психическое значительно сложнее, имеет куда как большее количество степеней свободы . Объект и предмет психологии много сложнее, чем в естественной науке.
Поэтому в высшей степени странно, что эти обстоятельства философией науки по сути не учитываются. Во всяком случае, отметим, что предлагать упрощенный подход к сложным объектам весьма наивно. Не случайно К. Юнг многократно подчеркивал, что время глобальных теорий в психологии еще не наступило [6, 8, 9].
Между тем представляется, что определить характер накопления данных в той или иной науке не так уж сложно. Достаточно обратиться к истории соответствующей научной дисциплины. Элементарный анализ состояния последней, выявление того, чем она на самом деле, по сути, является: архивом, отражающим прошедшее научной дисциплины, либо действующим арсеналом, собранием методов, нацеленных на решение определенных задач. Как нам представляется, можно использовать универсальный тест.
Тест состоит в том, что мы оцениваем историю той или иной науки, ее состояние, ее статус для того, чтобы оценить характер развития самой науки. Очевидно, что у «более революционной» и «более кумулятивной» будут существенно различные характеристики.
Итак, если мы возьмем историю психологии, то обнаружим, что там нет не только правильных или неправильных концепций, но даже в более мягком варианте более правильных или менее правильных. Более ранние концепции не являются менее адекватными, чем более поздние. В истории психологии зафиксированы подходы, которые до сих пор актуальны и используются в науке. Иными словами, концепции Фрейда, Адлера и Юнга, к примеру, до сего дня с успехом применяются и в науке, и на практике, имеют научную ценность. Становится понятно, что обилие подходов и теорий, объясняющих одно и то же явление, порождается сложностью, многоаспектностью и многоуров-невостью, множественностью числа степеней свободы предмета исследования, а не частотой революций.
В психологии мы видим радикальные отличия от того, что обнаруживается в естественных науках. Там есть теории, относящиеся к прошлому: точно определено, что в таком-то подходе или концепции устарело, что учтено в последующих теориях, «снимающих» (в гегелевском смысле) предшествующие. Хочется обратить внимание на то, что психология это не единственная область человеческого знания, где наблюдается такая картина. В той же философии дело обстоит весьма сходным образом. Хорошо известно, что представление о современной философии дает история философии. Аналогично обстоит дело с искусством. Не будем дальше продолжать поиск расхождений между постулатами философии науки и реалиями психологии. Констатируем, что философия науки, вероятно, хорошо описывает процессы, происходящие в естествознании, но малопродуктивна по отношению к научной психологии.
В свете сказанного выше нас не будут удивлять высказывания методологов науки о том, что психологи странно ведут себя по отношению к понятиям философии науки. Проиллюстрировать это можно примером с использованием термина «парадигма». Красивое слово используется психологами в таком количестве различающихся значений и смыслов, что это полностью дискредитирует сам термин. Обратим внимание на то, что большая часть вариантов использования термина «парадигма» вообще не связана с исходной трактовкой термина «парадигма», предложенной в 1962 году Томасом Куном.
В тех учебниках по методологическим основам психологии, куда включается материал по современной философии науки, он представляет собой по большей части дополнительную нагрузку на память студента. В лучшем случае он обогащает его эрудицию, так как привести примеры из области психологии авторам обычно не удается, ибо отсутствует позитивный опыт применения этого аппарата в психологической науке. Вряд ли стоит обвинять в сложившейся ситуации только косность и леность мысли психологов – можно представить картину и так, что философия науки пока еще не поднялась до осознания и концептуализации положения дел в психологии.
Положение психологии – особое, она отличается существенно и от других социогуманитарных дисциплин. Не случайно мудрый Аристотель утверждал, что это наука о наиболее совершенном и возвышенном, о чем мы уже упоминали. В большинстве случаев разработки философов науки не встречают широкого отклика у психологов. Это достаточно известно, поэтому не будем более задерживать внимание читателя, лишь упомянем один пример. Психологи по своей воле и с желанием используют концепцию исторических типов рациональности. На первый взгляд, этот случай противоречит сформулированному выше утверждению: возникает впечатление, что на этот раз психологи ассимилировали философскую наработку и готовы использовать ее на благо собственной дисциплины. Но в действительности все оказывается «как всегда»: выделенные философами и детально обоснованные типы наполняются своим содержанием, что превращает их использование в чистую формальность.
Каким представляется выход из сложившейся непростой ситуации во взаимоотношениях психологии с философией науки? Этот вопрос обсудим в заключительной части этой статьи. Сейчас обратимся к глобализации, тем более что этот термин упомянут в названии статьи.
Обратим внимание, что психология всегда отвечала на вызовы. Так происходит и сегодня. В последнее время таким вызовом выступает глобализация. Во втором номере «Психологического журнала» за 2018 год опубликована статья уважаемых авторов «Психологическая наука в глобальном мире: вызовы и перспективы» [5], которая затрагивает интересы всех, кто причастен к психологической науке. В анализе вариантов ближайшего будущего психологической науки, в конструктивных предложениях и прогнозах различных исследователей, в том числе и относящихся к разным направлениям и школам, видится залог дальнейшего развития отечественной психологии, как бы ни оценивалось ее настоящее.
В упомянутой выше статье анализируются проблемы, возникающие в психологии в связи с глобализацией. В частности, утверждается, что психология должна отвечать на вызовы современности. Проанализировав тенденции в мировой психологии, авторы приходят к выводу, что в современных условиях имеет место формирование глобальной психологии как многополюсного сетевого образования, причем не в качестве единого теоретического течения, а скорее как дивергентного развития новых и переосмысленных старых психологических теорий в попытках дать объяснение современным эмпирическим реалиям, порождаемым современным миром [там же].
Авторы предлагают определить глобальную психологическую науку как этап в ее развитии, порожденный новой реальностью, для описания которой уже не годятся старые теории. При этом утверждается, что дискурс глобальной психологии направлен на становление научной дисциплины, способной адекватно ответить на вызовы времени, отразить психологию ныне живущего человека. Отмечается, что в зарубежной науке он в целом по- зитивно воспринимается в контексте становления новых школ, роста их разнообразия и освобождения от необходимости следовать устаревшим теориям [там же].
Остановимся на некоторых вопросах, связанных с глобальной психологией. Обратим внимание, что авторы статьи отмечают, что существует две тенденции в понимании содержания, вкладываемого в понятие «глобальная психология» ( Global Psychology ).
В литературе доминирует представление об этом феномене как психологии универсальной, всемирной ( Universal Psychology ). Дж. Берри, один из ярких и последовательных сторонников такого понимания глобальной психологии, пишет: «Наш универсалистский взгляд на перспективы развития дисциплины зиждется на утверждении, что основные психические процессы являются общими для всех представителей нашего вида, в то время как их развитие и формы проявления культурно специфичны. Соответственно, наша цель – глобальная психология, которая включает данные об обществах и культурах из всех частей света. Я утверждаю, что разнообразие человеческого поведения должно быть описано и проанализировано как основа для выявления общечеловеческих закономерностей... С этой точки зрения, с ходом глобализации предметная область психологии расширяется, включая в себя новые и новые культурные контексты. Глобальный мир видится как широкий набор отдельных культур, которые необходимо включить в рассмотрение и сравнение, чтобы в итоге выявить общечеловеческие качества» [там же, c. 62].
Другой взгляд на суть глобальной психологии, как отмечают авторы, «остается менее распространенным. С этой точки зрения глобальная психология прежде всего должна отразить принципиальную новизну процессов, происходящих в человеческом обществе в эпоху глобализации, а также коренные изменения, которые претерпевают социум и культура. Глобальная психология понимается в контексте этого дискурса как психология глобального мирового сообщества (Global Community Psychology)» [там же].
Обратим внимание на принципиально важный момент. Еще раз процитируем статью трех авторов: «Можно заключить, что в общем контексте глобальных изменений с неизбежностью происходит формирование глобальной психологической науки, отражаясь как в изменениях представлений о предмете (объекте) науки, так и и в изменениях субъекта науки – мирового научного сообщества» [там же, с. 62–63].
Говоря о глобальной психологии, следует подчеркнуть, что меняются представления скорее не о предмете, а об объекте психологии. Авторы совершенно правильно пишут о диалектике дифференциации и интеграции. Необходимо помнить, что интеграция возможна на той или иной основе – для этого нужен предметный (операционный) стол. То есть широкое понимание предмета. В любом случае неявно используется та или иная «общая психология» в смысле, который придавал этому понятию Л. С. Выготский [2].
Стоит подчеркнуть, что при осуществлении любых интегративных действий в рамках глобальной психологии неявно подразумевается определенная модель – вполне сциентистская и позитивистская. Тот самый пресловутый американский стандарт. Как представляется, здесь очень важно помнить о том, что психология чрезвычайно далека от завершенности. Юнг писал, что мы пока не можем понять сущность психологического фактора: «Мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность» [16, с. 418].
Здесь уместно вспомнить, что многие выдающиеся мыслители предупреждали: путь познания психики и далек, и долог – психология совсем не близка к своему финальному состоянию.
Уильям Джемс писал о мраке, который окружает сферу психического: «Когда в психологии явится свой Галилей или Лавуазье, то это, наверное, будет величайший гений; можно надеяться, что настанет время, когда такой гений явится и в психологии, если только на основании прошлого науки можно делать догадки о ее будущем. Такой гений по необходимости будет ″ метафи-зиком ″ . А для того чтобы ускорить его появление, мы должны сознавать, какой мрак облекает область душевных явлений, и никогда не забывать, что принятые нами на веру положения, на которые опирается все естественноисторическое исследование психических явлений, имеют временное, условное значение и требуют критической проверки» [4, с. 408].
Отметим, что все правильно – предупреждение Джемса оправдалось. Как быть, однако, нам, живущим в XXI столетии и пытающимся размышлять о судьбе психологической науки? Времени ждать, пока проявится сущность психики, у нас нет. Тем более что А. А. Федоров, которого мы уже цитировали, предупреждал, что это может занять не одну сотню лет.
В данной связи акцентируем лишь один момент. И в эпоху глобализма стоит вспомнить о национальных традициях. Речь идет о достижениях русской философской психологии. В ней было разработано представление о том, что традиционная психология весьма далека от идеала. Об этом писали и С. Н. Трубецкой (1889), и С. Л. Франк (1917). Можно сказать, что в философской психологии был определен идеал психологии, к которому она должна стремиться. Недальновидно ограничиваться только тем, что есть в распоряжении сейчас. Иными словами, надо вначале понять, какой должна быть психология.
Русским философам-психологам было свойственно размышлять о задачах психологии. Приведем две цитаты из труда замечательного русского философа, опубликованного ровно сто лет назад. «Современная так называемая психология есть вообще не психология, а физиология. Она есть не учение о душе как о сфере некой внутренней реальности, которая – как бы ее ни понимать – непосредственно, в самом опытном своем содержании, отделяется от чувственно-предметного мира природы и противостоит ему, а именно учение о природе, о внешних, чувственно-предметных условиях и закономерностях сосуществования и смены душевных явлений. Прекрасное обозначение „психология” – учение о душе – было просто незаконно похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение. И даже если примириться с новейшим, искаженным смыслом этого слова, нужно признать, что, по крайней мере, три четверти так называемой эмпирической психологии и еще большая часть так называемой „экспериментальной” психологии есть не чистая психология, а либо психофизика и психофизиология, либо же – что точнее уяснится ниже – исследование явлений хотя и не физических, но вместе с тем и не психических» [там же].
И «одно лишь несомненно: живой, целостный внутренний мир человека , человеческая личность, то, что мы вне всяких теорий называем нашей „душой”, нашим „духовным миром”, в них совершенно отсутствует. Они заняты чем-то другим, а никак не им. Кто когда-либо лучше понял себя самого, свой характер, тревоги и страсти, мечты и страдания своей жизни из учебников современной психологии, из трудов психологических лабораторий? Кто научился из них понимать своих ближних, правильнее строить свои отношения к ним?» [Там же].
Как понятно из второй приведенной цитаты, мы полагаем, что то, что презрела психофизиология – живой, целостный внутренний мир челове- ка, на самом деле является подлинным предметом психологической науки в том высоком смысле слова, о котором С. Л. Франк писал в первом приведенном фрагменте. По нашему мнению, предметом научной психологии целесообразно считать внутренний мир человека, как об этом уже написано [9, 13, 14, 15].
И в заключение несколько слов о том, как быть с философией психологии. Разумеется, стратегически необходимо взаимодействие философов науки и психологов. Поскольку в настоящий момент этого нет, как можно полагать, именно психологи должны взять на себя инициативу. Необходимо незамедлительно приступить к разработке философии психологии как раздела психологического знания . В качестве первого условного вклада дадим общий приблизительный очерк философии психологии. Дадим самую общую и чрезвычайно сжатую характеристику философии психологии как уровня когнитивной методологии психологической науки [8, 10].
-
1. Этот уровень имеет дело с идеями. Используя терминологию К. Поппера, можно сказать, что философия психологии имеет дело с «третьим миром».
-
2. Это основная зона ближайшего развития и психологии, и ее методологии. На этом уровне осуществляется стратегическое планирование и прогнозирование развития психологической науки, философия психологии определяет ориентиры и магистральные задачи, обнаруживает перспективы для междисциплинарных исследований.
-
3. Философия психологии вырабатывает понимание предмета психологии и конструирует предметное пространство психологии. Философия психологии ориентирует в современной постановке и решении основных проблем психологии: психофизической, психофизиологической, психосоциальной, психогенетической. Философия психологии обеспечивает
-
4. Философия психологии обеспечивает формирование идеала психологической науки. Разрабатывает представление о том, какой научная психология должна быть.
-
5. Философия психологии обеспечивает единство психологии, объединяя в одно пространство различные составляющие: академическую психологию, практикоориентированную, философскую психологию.
-
6. Философия психологии обеспечивает интеграцию различных потоков психологического знания. В данном пункте требуются хотя бы минимальные пояснения. Дадим их. Речь, в частности, идет о том, что кроме «академической», научной психологии существуют другие потоки психологического знания в культуре. Это и трансперсональная психология, и гуманистическая, и различные варианты практической психологии и психопрактики, и литература, и искусство, которые тоже по-своему раскрывают психическую жизнь человека. Философия психологии производит учет и интеграцию всего психологического знания (во всяком случае, на уровне идей).
-
7. Философия психологии является основным фактором, определяющим стратегию историко-психологического исследования. Тезис также нуждается в пояснении. Автор, описывая какое-то историческое событие, в качестве позиции для выбора оценки реально использует позицию «из будущего», из идеального представления о том, какой должна быть психология. Позиция "не из сегодняшнего дня" - единственная, которая делает историю более или менее объективной. Именно поэтому категория философии психологии так важна для истории психологии. Мы уже отмечали, что в некоторых случаях традиционная история психологии не располагает тем знанием, которое научное сообщество вправе от нее ожидать. Есть и дру-
- гие недостатки современной истории психологии [10].
-
8. И последнее, может быть, самое важное. Философия психологии, как мы ее представили в настоящем тексте, существует реально, только, к сожалению, в силу разных причин к настоящему времени она недостаточно разработана. И особенно удивительным представляется то, что в психологии совершенно не изучены пред-
- ставления о философии психологии реальных психологов-исследователей, делающих науку сегодня. По нашему мнению, назрела потребность в проведении исследований содержания и структуры философии психологии как раздела психологии. Как можно полагать, разработка философии психологии как раздела психологии, а не философии науки, будет способствовать дальнейшему
«вписывание» психического в научную картину мира.
развитию психологической науки. Обратим внимание на то, что такая разработка существенно увеличит прогностические возможности в определении перспектив развития науки.
В заключение повторим, что разработка философии психологии, на наш взгляд, является насущной задачей современной отечественной психологии на текущем этапе ее развития.
Список литературы Научная психология в век глобализации
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. 550 с.
- Вундт В. Основания физиологической психологии. М.: Типогр. М. Н. Лаврова и Ко., 1880. 1040 с.
- Выготский Л. С. Сочинения: в 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982.
- Джэмс У. Психология. Изд. 5-е. С.-Пб.: Изд. К. Л. Риккера, 1905. 425 с.
- Журавлев А. Л., Мироненко И. А., Юревич А. В. Психологическая наука в глобальном мире: вызовы и перспективы//Психологический журнал. 2018. № 2. С. 57-70.
- Мазилов В. А. Прогресс на фоне кризиса//Вопросы психологии. 2017. № 6. С. 107-116.
- Мазилов В. А. Психология: будущее науки//Высшее образование сегодня. 2017. № 10. С. 53-59.
- Мазилов В. А. Психология: взгляд в будущее//Психологический журнал. 2017. Т. 38. № 5. С. 97-102.
- Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. Ярославль: МАПН, 1998.
- Шадриков В. Д. Внутренний мир человека. М., 2006. 386 с.
- Шадриков В. Д., Мазилов В. А. Общая психология. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 411 с.
- Мазилов В. А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль: ЯГПУ, 2017. 419 с.
- Федоров А. А. Психология в системе наук: историческая перспектива: учеб. пособие. Новосибирск, 2009. 104 с.
- Франк С. Л. Душа человека: Опыт введения в философскую психологию//Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб.: Наука, 1995. С. 417-632.
- Шадриков В. Д. О предмете психологии (Мир внутренней жизни человека)//Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 1. № 1. С. 5-19.
- Jung K. G. Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psychologie//Ges. Werke. Bd. 8. 1967. S. 418-423.
- Wundt W. Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig: Engelmann, 1874. XII, 870 s.


