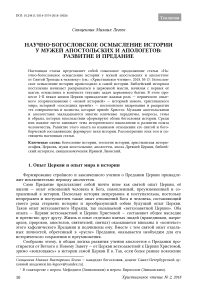Научно-богословское осмысление истории у мужей апостольских и апологетов: развитие и предание
Автор: Священник Михаил Легеев
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья представляет собой смысловое продолжение статьи «Научно-богословское осмысление истории у мужей апостольских и апологетов: от Святой Троицы к человеку» (см.: «Христианское чтение». 2018. № 1)1. Богословское осмысление истории происходило в самой истории. Библейский историзм постепенно начинает раскрываться в церковной мысли, начиная с первых её шагов, осмысляясь в контексте текущих задач церковного бытия. В этом процессе I–II векам жизни Церкви принадлежит важная роль — первичного опытного соприкосновения с «новой историей» — историей нового, христианского мира; историей «последних времён» — постепенного вызревания и раскрытия тех совершенства и полноты, которые принёс Христос. Мужами апостольскими и апологетами закладываются многие ключевые парадигмы, вопросы, темы и образы, которые впоследствии сформируют облик богословия истории. Среди них важное место занимает тема исторического накопления и развития опыта человечества. Развитие этого опыта во взаимном отношении его святой и богоборческой составляющих формирует вехи истории. Рассмотрению этих тем и посвящена настоящая статья.
Богословие истории, теология истории, христианская историософия, Церковь, мужи апостольские, апологеты, эпоха Древней Церкви, библейский историзм, священномученик Ириней Лионский
Короткий адрес: https://sciup.org/140223379
IDR: 140223379 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10026
Текст научной статьи Научно-богословское осмысление истории у мужей апостольских и апологетов: развитие и предание
апологетов (свв. Иустин Мученик , Феофил Антиохийский и др.), обращаясь к языческому миру, представляет в своих апологиях учение о Предании ветхозаветной Церкви 2, то св. Ириней Лионский, ставящий перед собой задачу разделения Церкви с миром ересей и расколов, переводит те же самые характеристики, которые использовали его предшественники в описании священного опыта, в совершенно иную плоскость — опыта Церкви Христовой .
Оба поколения апологетов, таким образом, рассматривали святой опыт, составляющий собственно область Предания (ветхозаветного Израиля или, впоследствии, его преемницы — Церкви) не сам по себе, а на контрасте и в противовес опыту окружающего, отделенного и так или иначе враждебного Церкви (или её прообразу — ветхозаветному Израилю) мира3.
Но «антипредание» [Легеев, 2017а, 44–54], то есть опыт отделенного от Церкви мира, при всей его противопоставленности Преданию, настойчиво подчеркиваемой апологетами, не может быть описан исключительно черными красками. Более того, антипредание ветхозаветного времени, с одной стороны, и современное апологетам, с другой, обладают разной спецификой, разным вектором действия, при всем сходстве основных черт обоих.
Для удобства мы поместили наиболее общие характеристики Предания и антипредания, приводимые апологетами, в следующую таблицу4.
|
Ветхозаветное время |
Эпоха Церкви Христовой |
|
|
Предание |
Священный опыт ветхозаветной Церкви — Израильского народа. Он формировался Самим Логосом, ещё не воплощенным, который как Божественный Педагог водительствовал Израильский народ ко Христу. |
Священный и кафолический опыт Церкви Христовой. Он представляет собой всю полноту наследия Христова и всю полноту даров Святого Духа. Сам Христос, воплотившийся Логос, есть видимый корень этого опыта. |
|
Антипредание |
Опыт языческого мира
|
Опыт мира ересей и расколов
|
|
3. С помощью этого опыта (а именно семян Логоса, заключенных в нем) языческий мир идет ко Христу. Таков общий центростремительный ко Христу вектор движения языческого мира. |
3. Несмотря на близость к Церкви5, мир ересей и расколов удаляется от Христа. Таков общий центробежный от Христа вектор его движения. |
2. Предание как единое целое — неделимый опыт Церкви
Органические образы Предания берут свое начало задолго до прп. Викентия Ле-ринского [Викентий, 2000, 76–79. 1:23]6, восходя к библейским образам горчичного семени, пшеничного колоса, человеческого организма7. Таковы же и неорганические образы — строительства дома, храма, града8; все они могут быть отнесены как к церковной жизни в целом и самой Церкви, так и специфически к её Преданию. Если у мужей апостольских, как правило, экклезиологические образы, относящиеся к Церкви и её жизни в целом, ещё специфически не свидетельствуют о Предании как об опыте церковной жизни9, то у апологетов мы уже можем найти такие свидетельства10. Образы Предания, то есть исторического опыта Церкви , естественным образом оказываются неразрывно связаны с образами самой Церкви и восходят к ним.
Учитывая эту неразрывную связь Церкви как таковой и её исторического опыта, учитывая, таким образом, и совместное вызревание святоотеческой экклезиологии и богословия истории в той его части, которая претендует на осмысление исторического опыта как такового, через фокус и ретроспективу свойств Церкви мы оказываемся способны оценить и учение апологетов о Предании. Свойства Церкви отражаются в Предании, выступая его ключевыми характеристиками.
У среднего поколения апологетов наиболее часто упоминаются такие черты ветхозаветного Предания, как согласие и древность (непрерывность, идущая от древности). У св. Иринея Лионского они дополняются характеристиками уже Предания церковного: всеобщностью (открытостью) и полнотой (Предание содержит полноту Откровения Божия). Антипредание в своих основных характеристиках представляет собой своего рода негативный слепок Предания. Разногласие и бесплодная партикулярность11, неполноценность и новизна — таковы эти свойства.
В следующей таблице представлена попытка более развернутой реконструкции учения апологетов о Предании и антипредании в «контексте» свойств Церкви.
|
Свойства Церкви |
Предание как единое целое |
Антипредание |
|
Единство |
Опыт Церкви один и тот же, согласный в своих членах. Он неповторим и уникален; является для всех единственным источником и примером |
Опыт антипредания (ересей, расколов и самочинных сборищ [Ириней, 2008, 394–395. 4:26:2]) не имеет подлинного единства. Он разногласен, разрознен |
5 Поскольку еретики и раскольники вышли из Церкви и могут даже в определенном смысле называться братьями. Ср.: [Климент, 2003, 129. 19:95:4; Киприан, 1999, 245].
6 Ср.: «Много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне» [Киприан, 1999, 235]. Ср. также: [Ириней, 2008, 297–298. 3:19:3].
7 См.: Мф 13:31–32 и др.; Мф 13:24–30; 1 Кор 4:12–27.
8 См.: 1 Кор 3:16; Евр 12:22–23; Откр 21:2 и др.
9 Например, образы башни (неорганический) и женщины (органический) в «Пастыре» Ерма.
10 См., например, в контексте: «Они [ереси] не основаны на одном камне, но на песке, содержащем в себе множество камешков» [Ириней, 2008, 318. 3:24:2].
11 Ср.: ересь — греч. αἵρεσις («направление, выбор»).
|
истины и жизни [Ириней, 2008, 428, 495. 4:35:4; 5:20:1 и др.]. Столь же согласным и единым был и опыт ветхозаветной Церкви, прообразующий Предание Церкви Христовой [Феофил. 2:35; 3:17]. |
и противоречив между своими частями [Ириней, 2008, 427, 494–496. 4:35:4; 5:19:2; 5:20:2]. Таков же был и опыт языческой дохристианской истории [Феофил. 3:3]. |
|
|
Святость |
Опыт Церкви равно свят, нужен и открыт всем для спасения. Он просвещает человека и отделяет его от греха; призывает же всех к святости и соединению с Богом [Ириней, 2008, 324, 335–336, 495–496. 4:1:2; 4:6:5–7; 5:20:1–2]. |
Опыт антипредания нечестив, губителен, смешан с заблуждениями мира и скрывается от света под личиною ложной избранности, «отделенно-сти»12 (эзотеричности). Он застилает духовный взор человека, отделяя его от Бога [Ириней, 2008, 333–336. 4:6:4–7]. |
|
Кафолич-ность |
Опыт Церкви полон всяких духовных сокровищ, содержит в себе всё, потребное человеку для жизни в Боге [Феофил. 2:33; Ириней, 2008, 225, 396, 416. 3:4:1; 4:26:5, 33:8]. Также и до рождения Церкви Христовой, то есть в церкви ветхозаветной, этот опыт, хотя и не имел полноты присутствия Святого Духа, но был истинным , лишенным пагубы и лжи измышленного человеком, по прямому пути направлял человека к Богу [Феофил. 2:30; 3:16, 26, 29]. |
Опыт антипредания (как ветхозаветного, так и новозаветного) неполноценен , представляет собой губительную смесь меда с ядом, паразитируя на «обрывках» достояния ветхозаветной, а затем и Христовой Церкви [Ириней, 2008, 348–349, 496. 4:12:1; 5:20:2; Феофил. 2:12; 3:16]. |
|
Апосто-личность |
Опыт Церкви древен и непрерывен , преемствен. Он проистекает от начала — Христа, через апостолов (а и до этого, то есть в ветхозаветной Церкви, — от самого сотворения мира, через непрерывную череду праведников, патриархов и пророков, исполнявших волю Божию) [Ириней, 2008, 222–224. 3:3:1–4; Памятники, 2005: Иустин Мученик, Первая апология, 67, 73, 76. Гл. 43, 51, 53 (44, 52, 54) и др.; Феофил. 2:30; 3:16, 26, 29]. |
Опыт антипредания нов ; он имеет своими источниками не Бога, но конкретных людей — ересиархов и расколоначальников [Ириней, 2008, 221, 226. 3:2:1–2; 3:4:3]. Столь же новы по отношению к преданию ветхозаветной Церкви и учения языческих мудрецов [Феофил. 2:33, 38; 3:23, 30]. |
3. Предание в своем развитии: от прообраза к тайне
Примечательно то подготовительное развитие учения о Предании, которое происходило в среде апологетов до времени и фигуры св. Иринея Лионского. На фоне общего развития этого учения, характерного для апологетов как Запада, так и Востока, (представляющего Предание как единый и неделимый опыт Церкви) особенно выделяется традиция малоазийской школы . Именно здесь, у свв. Мелитона Сардийского , а затем и Иринея Лионского , тема Предания предстает в новом и более объемном ракурсе — в перспективе своего развития , в историческом движении от прообраза к его исполнению в настоящей реальности, и от реальности — к тайне будущего.
Это вызревание исторического опыта отношений Бога и человека обнаруживает себя через единство, святость, соборность и апостоличность Предания:
– через согласие и единство времен;
– через личную открытость Бога человеку и человека — Богу, возможную по отвержению греха;
– через обладание богообщением;
– через органическую непрерывность этого исторического процесса.
4. Вехи истории
Историческое развитие Предание обнаруживает у апологетов и обратную (телеологическую) перспективу . Её основание можно заметить ещё у сщмч. Игнатия Антиохийского («Для меня древнее (ветхозаветных писаний) — Иисус Христос, непреложно древнее — Крест Его, Его смерть и Воскресение, и вера Его» [Писания мужей, 2003: Послание к филадельфийцам, 361. Гл. 8]), в «Пастыре» Ерма 13 и у других мужей апостольских. У св. Мелитона же она предстает реальностью, проецируемой на прошлое из будущего [Мелитон. Гл. 6 и др.]; эту же мысль мы вновь встречаем у его ученика, св. Иринея Лионского.
В следующей таблице мы схематично представили реконструкцию учения о развитии Предания у апологетов. Антипредание в своем историческом развитии и эсхатологической перспективе оказывается таким же «отрицательным слепком» развития Предания, как и в своих онтологических корнях; имея корни в наследии апологетов, оно, однако, обнаруживает себя прежде всего у более поздних отцов14.
|
Свойства Церкви |
Предание в своем историческом развитии |
Антипредание в своем историческом развитии |
|
Единство |
Горизонтальное согласие и единство прошлого, настоящего и будущего [Ме-литон. Гл. 2, 58 и др.]. Образы Ветхого Завета прообразуют Новозаветную реальность, прообразуют Христа [Ме-литон. Гл. 35–45, 57–59 и др.]. А реальность жизни во Христе предвосхищает тайну будущего века [Ириней, 2008, 336. 4:6:7 и др. (вся 4 книга)]. |
Мир движется к такому мнимому «единству», которое «соединит» совершенно несоединимое. Разрушая сам себя, мир проходит через стадии исторического отвержения собственного прошлого, раз-согласовывает и разрушает историю, лишает её единства смысла и цели. Объявляя себя «рачителем прошло-го»15, мир на деле отвергает его, разрывая органическую связь эпох16. |
|
Святость |
Бог постепенно открывает Себя человеку (этот процесс завершается в Бого-воплощении) [Мелитон. Гл. 36, 38 и др.; Ириней, 2008, 354, 393, 409. 4:13:4; 4:26:1; 4:31:1 и др.], а затем — через сошествие |
Мир движется к «открытию тайн жизни», к мнимому торжеству науки, представляющей себя преодолевшей всякие пределы, границы всех тайн. |
|
Святого Духа — это открытие вновь и вновь совершается в церковных членах через их обновление и жизнь во Христе; постепенно они всё более и более глубоко соединяются с Богом, освяща-ясь — отвергаясь (отделяясь) греха. Ср.: [Писания мужей, 2003: Ерм, Пастырь ]. |
Мнимая «святость» мира, стоящая в конце этого пути, есть переход «за грань добра и зла» — в действительности есть ничто иное как неразличение добра и зла, неотделенность от зла, нечестие, духовное безразличие секулярного человека, превратившегося в «духовный механизм»17. |
|
|
Кафолич-ность |
История движется к обретению полноты опыта жизни с Богом (во Христе) [Мелитон. Гл. 37–38], а затем и раскрытия этого опыта в ипостасной полноте (в Церкви) [Ириней, 2008, 329–331. 4:4:1–2, 5:1 и др.]. На каждом историческом этапе отношений Бога и человека последнему синергийно сообщается максимально возможная в данное конкретное время полнота Откровения. Затем же, в жизни Церкви Христовой, эта полнота ипостасно раскрывается и преображает мир. |
История мира движется в направлении обретения иллюзорной «полноты» бытия18. В действительности эта история (и эта «полнота») представляет всё более и более неполноценные и искаженные формы человеческого опыта зла. То, что было невиданным ранее даже для искаженного грехом сознания богопротивников прошлых эпох, становится впоследствии «нормою», пролагая путь будущим ещё более невиданным аберрациям человеческого сознания. |
|
Апосто-личность |
Опыт ветхозаветной, а затем и Христовой Церкви изменяется в истории, составляя в ней дискретные периоды непрерывного исторического процесса, каждый последующий из которых органически связан с предыдущим, но принципиально отличается от него и его превосходит [Мелитон. Гл. 37, 42–43; Ириней, 2008, 432. 4:36:4 и др.]. Святые личности этих эпох подобно живым камням19 прилагают свой опыт к опыту своих духовных отцов на фундаменте — Христе. Этот опыт есть подлинный источник всякого благого опыта, приводящего человека ко Христу [Памятники, 2005: Иустин Мученик, Первая апология, 67–69. Гл. 43–45 (44–46) и др.]. |
Мир движется к такой «древности», которая представляет собой как бы Христа, как бы основание жизни. Такое движение есть своеобразный путь «назад в будущее», путь к антихристу, представляющемуся Христом и принимаемому (сперва в образах и идеях, а затем и явно) искаженным постепенно до невиданных величин сознанием человечества. «Конституционная монархия»20 антихриста21 вызреет из деяний множества лиц, каждое из которых внесет свой, новый вклад в этот исторический процесс роста антипредания. |
В конечном счете историческое развитие опыта человечества в его двух составляющих — святой и присущей миру — детерминирует историю, задает её эпохальность.
Первые, ещё не систематические богословские опыты периодизации истории мы находим в это же время конца I–II вв., время первичного развертывания учения Церкви и подготовки святоотеческой мысли к появлению научно-богословских систем.
Как мы уже отмечали [Легеев и др., 2018, 39–42], нерасчлененность личной и кафо-личной истории, переживание человеком себя как Церкви, понимание самой Церкви как места вечности в истории характеризуют саму эпоху Древней Церкви . Её представители выражают ощущение собственного исторического времени. Поэтому было бы наивно и в чем-то неверно понимать ожидание скорой парусии святыми этой эпохи как их некую историческую ошибку . Недостаток исторического опыта Церкви в это время в сочетании с органической постепенностью её исторического же развития определяют именно такое мироощущение — в котором пока что связывается то, что впоследствии будет детерминировано и отделено.
Следует заметить, что эта нерасчлененность мироощущения церковных писателей того времени касается не только их святой жизни с Богом. Всякий человек несовершенен, включая и членов Церкви; поэтому путь мира ко Христу и свой собственный путь к Нему оказываются столь же единой реальностью, соприсущей мироощущению того же самого человека, который мыслит и переживает себя как Церковь (См.: [Легеев, 2017б, 38–39]). Общая нерасчлененность истории личной и всеобщей — святой и грешной — оказывается характерным знаком этой эпохи.
Безусловно, при таком мироощущении настоящего трудно было бы ожидать от святых I–II вв. ясного детерминирования общеисторических процессов будущего. Тем не менее, уже у мужей апостольских возможно обнаружить и реконструктивно очертить общие закономерности, общие вехи истории; это обусловлено, по слову священномученика Игнатия Антиохийского , необходимостью «изучения времен (τοὺς καιροὺς καταμανθάωε)» [Ignatios, 721. 3:32]. Иллюстрацией взглядов этого периода может послужить следующая реконструкция исторической периодизации в послании апостола Варнавы (См.: [Писания мужей, 2003, 109–110. Гл. 15]):
«У Варнавы история религиозной жизни человечества подразделяется на три периода:
-
1. Первый период составляют (символически понимаемые) шесть дней творения, подготовительных к святости через домостроительство нашего спасения в Сыне Божием;
-
2. Второй период — (символически понимаемый) седьмой день, то есть день завершения творения и наступления покоя, совпадающего с изменением и самих условий мировой жизни… и нравственного миропорядка (уничтожение „времени без-законного“ и наступление святости)…
-
3. Третий период — завершения всего и начала „другого мира“» [Писарев, 2009, 556–557].
Буквальной протяженности этих периодов здесь дается определенное толко-вание22, однако следующая схематическая установка послания ап. Варнавы («Божественных установлений три: чаяние жизни, её начало и совершение. Ибо Господь через пророков предвозвестил нам то, что теперь и исполнилось, а вместе показал и начало будущего» [Писания мужей, 2003, 87. Гл. 1]) дает пищу для большего диапазона толкований понимания его автором периодизации истории. Автор послания не только относит эту периодизацию ко всеобщей истории, его призыв — сделать её также малой историей каждого отдельного человека23. Нерасчлененность обеих историй — характерный признак той эпохи. Идет ли здесь речь о трех эпохах всеобщей истории человечества24 или же — о трех периодах в жизни самой Церкви, остается предметом научных толкований и интерпретаций25. Взгляды других мужей апостольских (автора Дидахе, Ерма, св. Климента Римского и автора т. наз. Второго послания к Коринфянам св. Климента Римского) на предмет периодизации истории поддаются ещё более сложной реконструкции, однако носят в целом сходный характер с позицией автора послания апостола Варнавы (Подробнее об этом см.: [Писарев, 2009, 556–562 и др.]).
Ещё с большей уверенностью и конкретикой возможно реконструктивно очертить общие закономерности, общие вехи истории, намечаемые в наследии апологетов ; в общем и целом они соответствуют представлениям мужей апостольских:
-
1. Путь мира ко Христу;
-
2. Тысячелетнее царство Христово;
-
3. Апостасия мира и конец истории.
-
4.1. Начало христианской истории: путь мира ко Христу
-
4.2. Продолжение истории: «тысячелетнее Царство Христово»
Можно отметить, что ко времени святого Иринея Лионского эта схема более устойчиво может быть интерпретирована как время именно христианской истории (в ущерб истории всеобщей)26.
Понимание и толкование этих периодов как мужами апостольскими, так и апологетами несет на себе черты вышеобозначенного «смешения планов», порой доходя до прямых противоречий между этими планами и хилиастического понимания истории, однако сама наиболее общая последовательность вполне может быть истолкована в согласии с Преданием Церкви. Именно апологеты вплотную приблизятся к той четкой детерминации истории, первые научные (пусть и не всегда успешные) попытки которой обнаружат себя в IIΙ в.
Катехизическая проповедь мужами апостольскими «двух путей» свидетельствует о начале христианской истории, о самой необходимости этой истории и предваряет взгляд на историю апологетов.
Сам же пафос труда апологетов не просто имеет миссионерское измерение27, но предполагает в то время почти невозможное — надежду на приход ко Христу всего человечества, всей экумены, всего, языческого в подавляющем тогда большинстве, мира. «Мы оба победили, и я по справедливости приписываю победу себе» [Марк Минуций. Гл. 40], — эти слова Марка Минуция Феликса, сказанные от лица язычника — христианину, прообразуют исторический ответ всего языческого мира, данный Христу и Его Церкви. Богословие Климента Александрийского, идейного наследника апологетов, уже в следующем III веке подводит итог этой надежде: «Без сомнения, путь к истине один, но разные тропы, ведущие из различных мест, соединяются в ней, подобно тому, как различные потоки образуют единую реку жизни, текущую в вечность» [Климент, 2003, 86. 1:16:3].
Несмотря на предчувствие и ожидание близости конца истории, святые этого времени исполняют миссионерскую парадигму Церкви, действуя в согласии со словами Христа Спасителя: « И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам ; и тогда придет конец» (Мф 24:14). Эффект «сжимания времени» не устраняет и не отменяет при этом смысловую периодичность и законосообразность истории.
Так или иначе, эсхатология отцов I–II вв. в общем и целом окрашена хилиасти-ческими нотами, однако такое явление, как святоотеческий хилиазм Древней Церкви, требует осмысления с точки зрения богословия истории, при всей наивности и неверности его ключевых положений.
Следует заметить, что концепция «земного тысячелетнего Царства Христова», никогда не существовавшая, так сказать, в «безвоздушном пространстве», в системе взглядов того или иного автора неизменно включалась в более общий контекст понимания истории, была его составным элементом. Именно контекст понимания, включенность «тысячелетнего Царства» в общее понимание и периодизацию истории и придавал ему характер богословской ошибки или, напротив, свидетельства церковного Предания .
Черты хилиазма, равно как и вообще представления о тысячелетнем Царстве Христовом, у мужей апостольских, а также первых поколений апологетов, реконструируются рядом исследователей. Впрочем, время вплоть до конца II в. представляет к этому материал довольно скудный. Для нашей темы представляет интерес следующая характеристика периода «тысячелетнего Царства» в послании апостола Варнавы :
«„Будущий век“… по формуле Варнавы будет продолжаться тысячу лет и придет на смену „веку настоящему“, — веку борьбы за идеалы христианства» [Писарев, 2009, 557], «по его характеристике, это период „покоя“, т. е. освобождения от борьбы с „временем беззаконного“; он — выражение „святости“ как общего и господствующего настроения » [Писарев, 2009, 562].
Хилиазм св. Иустина Мученика очевиден и по своей простоте, ясности и грубому натурализму вряд ли может дать для богословия истории что-либо ценное28. Менее однозначная и вместе с тем существенно более обширно представленная хилиастическая концепция истории изложена св. Иринеем Лионским в последних (т. наз. хилиастических) главах его грандиозного труда «Против ересей»29. Остановимся на ней более подробно.
При первом воскресении30 (называемом «воскресением праведных» и даже «таинством воскресения праведных» [Ириней, 2008, 523. 5:32:1]) земная история, согласно мысли св. Иринея, не заканчивается. В противоположность ему, «общее воскресение и суд» [Ириней, 2008, 533. 5:35:2] представляют собой «воскресение второе» — и вместе с тем окончательный и несомненный конец истории. Само противоположение двух «воскресений» косвенно отсылает нас к двум историям — личной (отдельно взятых людей, прошедших свой исторический путь и ставших Церковью) и всеобщей. Но уже личная история человека, ставшего Церковью, обретшего святость и праведность31, в таком контексте, в свою очередь, может быть осмыслена и представлена двояко32:
-
1. Со стороны её начала и, соответственно, — начатка святости и праведности человека, сообщаемого ему в момент его крещения, вхождения в Церковь.
-
2. Со стороны её окончания — исполнения человеком земного служения и стяжания относительной полноты святости и праведности .
-
4.3. Апостасия мира и конец истории
Иллюстрацией такого «наслоения» возможных смыслов (вряд ли осознаваемых самим св. Иринеем) может послужить, например, следующая мысль «хилиасти-ческих глав» св. Иринея: « Таинство воскресения праведных и Царство, которое есть начало нетления и через которое достойные постепенно привыкают вмещать Бога… Праведные должны сначала, воскреснув для лицезрения Бога, в обновленном создании получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем (т. е. жить и трудиться в Церкви), а потом настанет суд» [Ириней, 2008, 523. 5:32:1]. При отнесении «воскресения праведных» к началу личной «священной истории» человека33 (и, соответственно, отождествлении его с духовным воскресением человека в крещении к вечной жизни34) смысл всей фразы «сужается» до рамок исключительно личной истории. Напротив, при отнесении «воскресения праведных» к концу личной «священной истории» человека текст св. Иринея становится повествованием об истории всеобщей. Как видно из нижеприведенной таблицы, оба толкования возможны и не противоречат церковному Преданию, однако предполагают именно выбор (между первым и вторым), то есть то самое разделение личного и всеобщего исторических планов , которого так не хватает авторам этого времени.
|
План личной истории |
План всеобщей истории |
|
«Таинство воскресения праведных (т. е. крещение, будучи образом воскресения, вводит человека в Церковь — т. е. в) … Царство, которое есть начало нетления и через которое достойные постепенно привыкают вмещать Бога… Праведные (т. е. стяжавшие начаток праведности и привлекаемые к Богу) должны сначала, (духовно к жизни вечной) воскреснув для лицезрения Бога, в обновленном создании получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем (т. е. жить и трудиться в Церкви) , а потом настанет суд». |
«Таинство воскресения праведных (т. е. невидимое со-бытие святых со Христом и соучастие их в жизни Церкви земной) и Царство (т. е. Церковь) , которое есть начало нетления и через которое достойные постепенно привыкают вмещать Бога (т. е. святые, которые продолжают бесконечно и безгрешно приближаться к Богу) … Праведные (т. е. святые) должны сначала, воскреснув для лицезрения Бога, в обновленном создании получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем (в Церкви, вместе со Христом устрояя её земное бытие) , а потом настанет суд». |
В подобном же смысле могут быть истолкованы и некоторые другие ключевые места «хилиастических глав»35.
Следует, однако, заметить, что такому пониманию, по крайней мере в ясном сознании самого св. Иринея, противоречит очевидная привязка первого «воскресения праведных» к пришествию антихриста36 (толкование которой допустимо уже с гораздо большей мерою символизма37, вряд ли одобренного бы самим св. Иринеем) и, особенно, — толкование святым обетований Божиих Аврааму о наследии земли38. Это толкование содержит недвусмысленное противопоставление бытия Церкви и «оправдания верою» её членов (совершаемого в Крещении), с одной стороны, и первого «воскресения праведных», с другой, исключая, таким образом, отождествление первого «воскресения праведных» и крещения.
В любом случае, т. е. как бы мы ни понимали эсхатологические взгляды св. Иринея, последний ясно утверждает необходимость личной истории человека в Церкви , предшествующей его личной эсхатологии, — основанием этого служат подвиг и смерть Христа, предшествующие Его Воскресению39.
Представленные примеры показывают многомерный потенциал мысли св. Иринея о судьбах истории, при всей ошибочности его эсхатологии.
Время конца истории почти нигде мужами апостольскими и апологетами не описывается ни как лишенное исторической протяженности, ни, напротив, как строго известный по длительности период40. Таким образом, следует полагать его скорее как некую неопределенную эпоху, период таинственный и неизвестный по своей продолжительности, именуемый, впрочем, некоторыми церковными писателями «кратким временем» (См., напр.: [Иустин. Гл. 28]). Такое понимание подкрепляет именование вообще всей длящейся и, вместе, грядущей истории обобщенно «последним временем». В общем и целом это время оказывается наиболее таинственным и сокрытым для взора святых Древней Церкви, а их учение о нем оказывается «скорее перечнем эсхатологических истин, чем их раскрытием, развитием и обоснованием» [Оксиюк, 1999, 19].
Мужи апостольские ( Дидахе и «Пастырь» Ерма ) повторяют в общих чертах лишь новозаветные признаки приближения конца истории (не указывая, пожалуй, лишь на беды и казни мира, предшествующие концу); этим ограничиваются их представления о времени, последующем «тысячелетнему Царству»:
-
– апостасия мира, сопровождаемая оскудением любви;
-
– великие искушения, а также гонения на христиан;
-
– приход и правление антихриста41.
Автор послания апостола Варнавы , указывая на векторное движение истории к апостасии, говорит о приближении «последнего», но всё же «будущего искушения» [Писания мужей, 2003, 90–91. Гл. 4]. Сщмч. Поликарп Смирнский мыслит в русле наследия ап. Иоанна Богослова, утверждая учение о ересях и расколах как о предызо-бражениях антихриста и его беззаконного дела: «Всякий, кто не признаёт, что Иисус Христос пришел во плоти, есть антихрист… И кто слова Господни будет толковать по собственным похотям… тот первенец сатаны» [Писания мужей, 2003: Послание к филиппийцам, 386. Гл. 7. Ср.: 1 Ин 4:3].
Апологеты по интересующему нас вопросу здесь не вносят почти ничего нового, вплоть до сщмч. Иринея Лионского. Впрочем, мысль св. Иустина Мученика (наследника традиции св. Поликарпа и малоазийской школы в целом) о «приближении» истории к концу и явственном дыхании («стоит при дверях») антихриста42 предшествует учению св. Иринея о роли и месте возникающих ересей и расколов в «контексте» всего общеисторического процесса.
У св. Иринея Лионского мы находим учение о рекапитуляции (пере- и совоз-главлении) антихристом отступившего от Христа мира: «В грядущем звере будет перевозглавление (ἀνακεφαλαίωσις) всего нечестия и всякого коварства… Он перевоз-главит (ἀνακεφαλαιούμενος) в себе самом всё смешение зла, бывшее перед потопом и происшедшее от ангельского отступничества… И он [антихрист] перевозглавит (ἀνακεφαλαιούμενος) всё бывшее после потопа заблуждение выдуманных идолов и убиение пророков, и сожжение праведных… [В нем] совозглавится (συνκεφαλαιούνται) всё 6000-летнее отступничество, неправда, нечестие, лжепророчество и обман» [Irenaeus, 1201–1203. V:XXIX:2:327–328:70–78]. Подобно тому как рекапитуляция ( греч. ἀνακεφαλαίωσις, лат. recapitulatio, буквально — «перевозглавление») Христом падшего человечества имеет поступательный исторический характер, прообразуясь в истории Ветхого Завета, также и рекапитуляция апостасийного мира антихристом имеет исторический характер , подготавливается и прообразуется ересями и расколами, которые «сходятся в одном и том же богохульном намерении… — учат богохульству против Бога… и подрывают спасение человека» [Ириней, 2008, 322. 4: Пред.:4].
Согласно святым малоазийской богословской школы, процесс, названный св. Иринеем альтернативной «рекапитуляцией», уже запущен. Это создает для них определенные трудности в понимании того соотношения (и той, так сказать, очередности), которое будут иметь между собою «тысячелетнее Царство» и приход антихриста.