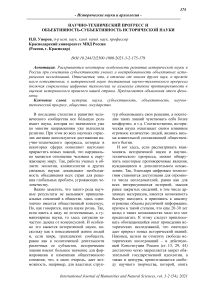Научно-технический прогресс и объективность-субъективность исторической науки
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3-2 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Раскрываются некоторые особенности развития исторической науки в России при сочетании субъективности ученых и востребованности объективных исторических исследований. Отмечается, что, в отличие от многих других наук, и прежде всего естественных, в исторической науке достижения научно-технического прогресса (включая современные цифровые технологии) не изменили степени противоречивости в оценках исторического прошлого нашей страны. Предлагаются объяснения этого феномена.
История, наука, субъективность, объективность, научно-технический прогресс, общество, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170188597
IDR: 170188597 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-2-175-179
Текст научной статьи Научно-технический прогресс и объективность-субъективность исторической науки
В последние столетия в развитии человеческого сообщества все бо́льшую роль имеет наука, которая по значимости уже по многим направлениям уже вытеснила религию. При этом во всех научных отраслях активно используются достижения научно-технического прогресса, которые в некоторых сферах позволяют настолько прирастить новых знаний, что кардинально меняется отношение человека к окружающему миру. Так, работы ученых в области экологии, климатологии и других смежных науках доказывают необходимость объединения всех стран для решения глобальных проблем, угрожающих человечеству.
Важно заметить, что такого рода научные результаты не вызывают принципиальных сомнений в обществе, здесь однозначно имеется общественный консенсус. Но, как говорится, наука науке рознь. Так, если иметь в виду не естественные, а гуманитарные науки, то здесь ситуация зачастую далека от консенсусной. И особенно это касается исторической науки, поскольку как в повседневной жизни людей и, если шире, гражданских сообществ, равно как в политической деятельности различных ее субъектов, исторические знания имеют большое значение для формирования и изменения общественного сознания, что, в свою очередь, дает возможность, например, для властных струк- тур обосновывать свои решения, а носителям таких знаний чувствовать себя более комфортно, и т.д. Соответственно, историческая наука охватывает своим влиянием огромное количество людей, являясь весьма влиятельной составляющей общественного бытия.
И вот здесь, если рассматривать взаимосвязь исторической науки и научнотехнического прогресса, можно обнаружить некоторые противоречивые явления, нуждающиеся в дополнительном осмыслении. Так, благодаря цифровым технологиям становятся доступными для огромного числа исследователей, равно как для всех интересующихся историей, массив ранее закрытых сведений, в том числе архивных материалов, имеется возможность быстро находить и принимать к анализу огромные объемы различной информации, причем в такой степени, что еще 20-30 лет назад о таких возможностях мало кто мог предполагать. К этому следует приплюсовать обогащающийся опыт проведения исторических исследований, что ежегодно дает прирост новых исторический знаний. Наконец, нельзя не отметить свободы исторических исследований – в действующей Конституции России (ст. 13, 29, 44) достаточно четко закрепляется запрет обязательной государственной идеологии, а также и цензуры, провозглашается свободу научного творчества, которой, опять же, имея в виду историческую науку, прежде всего, не хватало как в советском государстве (довлел классовый фактор, предусматривавший только один «правильный» исторический путь), так и в период империи (фактор самодержавия также ограничивал свободы исторической науки).
Однако указанные выше достижения научно-технического прогресса, равно как и выверенные конституционные формулировки, судя по всему, мало меняют, если вообще меняют, состояние исторической науки с точки зрения субъективности-объективности проводимых исследований и соответствующих исторических знаний и взглядов. Так, если иметь в виду нашу страну, то возникший после распада СССР в 1991 г. «раздрай» по поводу оценок исторического прошлого России не только не уменьшился, а, напротив, в последние годы еще более усиливается, и прежде всего в контексте определенного охлаждения России со странами Запада.
Очевидно, такое парадоксальное явление может быть объяснено тем обстоятельством, что влияние исторических знаний может быть как позитивным, так и деструктивным. Из этого вытекает значимость методологии исторических исследований, где как раз и сталкиваются субъективность-объективность в их осуществлении. В этой связи следует напомнить сложившийся в целом в науке общепризнанный тезис о том, что объективность научного исследования заключается прежде всего в воспроизводимости экспериментов, возможности подтверждения и проверки представляемых учеными результатов своих исследований. Вместе с тем также общепризнанно, что этот принцип относится прежде всего к точным, естественным, техническим наукам, где, в частности, имеются возможности использовать различные измерительные средств, позволяющие более объективно оценивать результаты исследований.
Но применительно к гуманитарным наукам ситуация сложнее. По этому поводу имеется мнение, согласно которому «понятие объективности вполне применимо в исторических исследованиях, если определять его как данные, достоверность которых подтверждена научными методами» [1, с. 39]. Однако с такой позицией трудно согласиться полностью, поскольку сама методология как раз и страдает субъективностью, которая ставит под сомнение объективность исторического исследования, в результате чего наблюдаются, в частности, поразительные разбросы и зигзаги в оценке исторических событий. Например, при изучении различных аспектов функционирования ГУЛАГа многие авторы обращаются к архивным документам в деятельности НКВД СССР, что вполне объяснимо, и активно на них ссылаются в своих работах. Но здесь возникают вопросы: можно ли считать все разного рода приказы, акты, записки и другие документы НКВД СССР достоверными только потому, что они являются официальными? Ведь не секрет, что за фактическое состояние дел далеко не всегда находило отражение в официальных документах, и, в частности, материалы реабилитации репрессированных лиц показывают, что многие уголовные дела были сфальсифицированы. В этой связи ряд историков обращается к дневникам, воспоминаниям современников, их произведениям (тех же известных критиков ГУЛАГа А.И. Солженицына, В.Т. Шаламов а и др.). Но и ведь присутствует субъективный фактор. И каждый историк сам определяет методологию отбора и оценок исторических документов и событий, то есть, накладывает свой субъективный взгляд. При этом исходная позиция историка-исследователя, так же как и многих историков-любителей во многом определяется политическим режимом в стране.
В этой связи нельзя не согласиться с О.А. Макаренко в том, что «сама идея о "фактах" в истории порой вызывает возражения в связи с несовершенством стандартов их проверки: большинство из того, что проходит как "исторические факты", на самом деле зависит от выводов исследователя. Историки «читают между "строк" или восстанавливают происходящее на основе нескольких противоречивых признаков, или ограничиваются установлением того, что автор документа скорее всего говорит правду. Но ни в одном из этих случаев историк не может наблюдать факты таким образом, как их наблюдает физик» [2, с. 83]. Как видно, достичь объективного исторического знания, с которым нельзя было бы не согласиться в виду неоспоримых аргументов, непросто. Как отмечает ряд авто ров в своей работе, «историческое знание представляет собой функционально важный элемент социальной памяти, которая в свою очередь является сложным многоуровневым и исторически изменчивым феноменом … помимо рациональной традиции сохранения знания о прошлом существуют коллективная социальная память, а также семейная и индивидуальная память, в значительной степени основанные на субъективном и эмоциональном восприятии прошлого. Несмотря на различия, все типы памяти тесно связаны между собой, их границы – условны и проницаемы. Ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов. Исторический опыт общества был и во многом остается результатом как рационального осмысления прошлого, так и его интуитивного и эмоционального восприятия» [3, с. 6].
В данном случае нельзя не согласиться с с тем, что исторические знания имеют слишком широкое понимание, чем знание в иных гуманитарных исследованиях. И объясняется это прежде всего тем, что исторические знания непосредственно вплетается в общественную-государственную-индивидуальную жизнь российского социума. Можно, очевидно, даже предположить, что в России поведение большинства субъектов жизнедеятельности, во всяком случае, в стратегических масштабах, определяется теми историческими знаниями, которые они получили, осознали (вложили в подсознание) и конвертировали в поведенческие установки. Отсюда вытекает важность формирования исторического сознания общества. В настоящее время оно разорвано, в нем весьма контурно просматривается единство (наглядный пример – отношение людей к Сталину).
В определенной степени это связано с противоречивой политикой правящей элиты государства, которая склонна, исходя из текущих интересов, к преувеличению (пременьшению) и выборочности «нужного» исторического отечественного опыта, и соответственно навязывает обществу некие исторические оценки, которые в дальнейшем нередко опровергаются. Неоднозначной в этом смысле представляется и позиция профессиональных историков. Так, еще сравнительно недавно (по историческим меркам), казалось бы, курс истории КПСС был фундаментальным для любого вуза в СССР. И вдруг, после 1991 г., коммунистической партии не стало, и более того, КПСС была обвинена в преступлениях против общества, по поводу чего была даже намерение организовать суд над КПСС [4]. Очевидно, свое слово должны были сказать и историки. Но какое слово было сказано теми, кто, образно говоря, еще вчера рассказывал студентам и писал статьи о руководящей роли КПСС в советском обществе? Историки быстро переориентировались (разумеется, мы не абсолютизирует это явление), и исторические оценки одних и тех же периодов стали кардинально меняться. Как видно, для историков, в отличие от других наук, важным является также моральный фактор.
Мы отнюдь не склонны подвергать критике поведение и действия указанных субъектов исторического знания (на то ни у автора, ни вообще у кого-либо нет морального права, ибо каждый сам определяет свою жизнь), и лишь констатируем, что ни власть, ни научное историческое сообщество оказались не готовы, причем до сих пор, дать обществу честный и внятный комментарий произошедшим тогда событиям, связанным с распадом СССР. На наш взгляд, следовало, если предельно кратко, пояснить, что идея коммунизма не прошла испытания временем и квалифицируется как утопическая, МТБ коммунизма к 1980 г., как предписывалось в Программе КПСС, построить не удалось даже в первом приближении, выбранное направление развития общества оказалось ошибочным, и социально-экономическая ситуация требовала перехода на рыночные отношения. Но для такого признания нужно было, конечно, незаурядное политическое мужество, а политиков с таковым не обнаружилось. Увы, подобные события не являются уникальными для России. Достаточно вспомнить цеплявшегося за власть Николая II, не способного передать власть народу, и предавших его генералов; череду дворцовых переворотов в XVIII в.; прися- гавших по многу раз подряд самым разным «царям» бояр и прочего чиновничества в годы Смуты; взаимовражду и угодливость Орде русских князей. Оттуда же, из древности (начиная, видимо, с Ивана Грозного) пошла и другая негативная черта в развитии отечественного историче- такого рода подходы историков к оценке имевших место, явлений, отдельных исторических персонажей встречаются так часто, что, вероятно, можно говорить об их типичности.
И в целом субъективизм во многих исторических исследованиях российских ис- ториков явно зашкаливает, что противоречит присущей историку методологии и мешает использовать достижения научнотехнического прогресса для повышения эффективности научного поиска. Подобное явление объясняется, на наш взгляд, прежде всего тем, что само российское общество находится в стадии весьма противоречивого общественно-политического ского знания, а именно переписывание ис- и социально-экономического развития, тории под текущую политическую конъюнктуру и формирование тем самым официальной государственной истории, которая становилась обязательной. Разумеется, об объективности такого исторического знания говорить не приходится, особенно когда одна официальная история (советская) перечеркивала другую официальную историю (имперскую), и это при том, что речь идет об одной стране и об одном народе!
В литературе по этому поводу высказа- на следующая мысль: «при сознательно проводимом субъективизме (что тождественно идеологизированные) результаты исторического исследования заранее предписываются исследованию и действия такого “ученого” являются лишь имитацией познавательной деятельности. В этом случае выбираются только те исторические факты, которые допускают интерпретацию в духе требуемого результата; факты, не работающие на такую “теорию”, либо отвергаются как ложные, либо же замалчиваются» [5]. В настоящее время в России схожего по степени внутреннего напряжения к периоду конца 1980-х гг. Тем не менее ученые-историки, на наш взгляд, должны находиться над «схваткой», и страницу за страницей писать Большую Летопись нашей страны, стремясь к максимально возможной объективности. Этот вектор, когда следует спокойно, без надрыва, описывать события, не замалчивая и не выпячивая отдельные из них, и и должен, как представляется, доминировать в исторической науке. Кроме того, мы счи- таем вполне возможным, когда историк меняет свою научную позицию, если на то, по его мнению, имеются соответствующие аргументы. Как отмечает О.П. Панафидина, у историков должна быть готовность «к пересмотру ранее полученного знания в свете новых следствий изучаемых исторических событий» [6, с. 114]. В любом случае представляется очевидным, что историкам следует воздерживаться от политизации и конъюнк-турности в своих исследованиях.
Список литературы Научно-технический прогресс и объективность-субъективность исторической науки
- Леопа А.В. Философский аспект проблемы объективности исторического знания // Дискуссия. - 2014. - № 1. - С. 37-41.
- Макаренко О.А. Проблема субъекта исторического познания в условиях современного общества: социально-философский анализ: дис. … канд. филос. наук. - Ставрополь, 2012.
- Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. - М.: Юрайт, 2019.
- Рудинский Ф.М. "Дело КПСС" в Конституционном Суде: Записки участника процесса. - М.: Былина, 1999.
- Нысанбаев А. Проблема объективности в историческом познании // Официальный сайт Института истории и этнологии МОН Республики Казахстан. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.iie.freenet.kz/otan_tar_1_2000_1-2.html (дата обращения: 25.08.2019 г.).
- Панафидина О.П. Историческая объективность: условия возможности // Эпистемология & Философия науки. - 2013. - № 1. - С. 101-117.