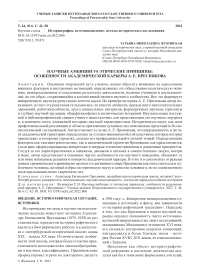Научные амбиции vs этические принципы: особенности академической карьеры А. Е. Преснякова
Автор: Жуковская Татьяна Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Оценивая творческий путь ученого, важно обратить внимание на пересечение внешних факторов и внутренних мотиваций, определявших его общественно-политическую позицию, непосредственные и отдаленные результаты деятельности, наличие учеников и последователей, на его образ, сохранившийся в коллективной памяти научного сообщества. Все это формирует вневременную научную репутацию деятеля науки. На примере историка А. Е. Преснякова автор показывает, из чего эта репутация складывалась: из качеств личности, прежде всего интеллектуальных дарований, работоспособности, круга специальных интересов, формирующих научные горизонты и глубину научной эрудиции, общефилософских и политических воззрений. Внушительные послужной и библиографический списки ученого недостаточны для представления его научного портрета и, в конечном счете, адекватной историко-научной характеристики. Историческую науку как поле профессиональной реализации и область приложения духовных сил невозможно представить без аксиологической составляющей. Автор отмечает в случае А. Е. Преснякова, что направленность и зигзаги академической траектории определялись не столько внешними обстоятельствами, которые историк преодолевал и которыми управлял, сколько его профессиональной и личной этикой. Определяющим фактором как «жизнестроительства», так и академической стратегии Преснякова, как представляется, стали рано сформулированные конкретные и твердые этические принципы и жизненные приоритеты. Следуя за его характеристиками и оценками, данными в письмах к самым близким людям, матери и жене, автор представляет в основных чертах особенности его научного поведения, объясняет те или иные жизненные решения и повороты академической карьеры. В этих эго-документах отражены поиски гармонического равновесия научного и жизненного мира Преснякова как интеллектуала и публичного человека, который избрал историческую науку в качестве основного, но не единственного поля приложения своих творческих сил.
Александр евгеньевич пресняков, петербургская историческая школа, история санкт-петербургского университета, коммуникации, научная повседневность, этические нормы российских историков
Короткий адрес: https://sciup.org/147238739
IDR: 147238739 | УДК: 930.1, | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.806
Текст научной статьи Научные амбиции vs этические принципы: особенности академической карьеры А. Е. Преснякова
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ИСТОЧНИКИ
Исторические взгляды и научно-методологические подходы известного историка Александра Евгеньевича Преснякова (1870–1929) не раз становились предметом историографического анализа в биографических работах и в дискуссиях о «петербургской исторической школе» конца XIX – начала XX века. Отличительные особенности этой школы, которые более столетия представляются исследователям смыслообразующими в научных классификациях, Пресняков емко сформулировал в речи на докторском диспуте
в 1918 году: «...Конкретное непосредственное отношение к источнику и факту, вне зависимости от историографической традиции»1. Парадокс в том, что сам Пресняков в начале научной карьеры ощущал скованность чисто источниковедческой направленностью своих исследований, посвященных Московским летописям XVI века, его увлекало построение широких концепций, интересовали и более близкие эпохи – история России XVIII–XIX веков, ее взаимоотношений с Западом.
Пресняков как объект историографической рефлексии в последние десятилетия оказался как бы в тени своих формальных учителей, а точнее, «старших» коллег по исторической школе – С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского, А. А. Шахматова. За исключением В. С. Брачева [2] исследователи не посвящали ему монографических исследований. В то же время в постсоветской историографии на наших глазах произошло эффектное «открытие» имен этих крупнейших русских историков после прежнего замалчивания. Развернулась републикация их трудов, эпистолярного наследия, вводились в научный оборот их научные архивы. Пресняков же, на первый взгляд, ни в 1930-е, ни в 1960–1970-е годы не выпадал из «списка цитирования», признавался «историком-марксистом» в противоположность вышеназванным ученым [3]. Но и широкого переосмысления его научного наследия в последние десятилетия не наблюдалось. Его столетний юбилей прошел практически незамеченным. К 150-летию историка в 2020 году Санкт-Петербургский институт истории РАН провел однодневные научные чтения, а также издал третий том лекций Преснякова, подготовленный его учеником Б. А. Романовым еще в 1940 году и пролежавший в корректуре восемьдесят лет [6]. Издание семейной переписки Преснякова, далеко не полное ввиду ее огромного объема, которое было осуществлено в 2005 году [7], остается недооцененным: к этому уникальному комплексу эго-документов историки науки обращаются не столь часто, как он того заслуживает.
Основанием для наших наблюдений и обобщений является главным образом упомянутый комплекс писем и дневников Преснякова. Ценность данного материала состоит в многообразии отразившихся в нем исторических, научных, индивидуально-биографических событий, пропущенных через сознание «человека науки». Данные эго-документы складываются в непрерывную летопись своего времени, отражают подробности «историографического быта», взаимоотношений в научной и университетской среде, дружеском кругу, демонстрируют отношение Преснякова к профессии, политике, его настроения, этические принципы. Этот обширный проект, охватывающий в основном комплекс семейной переписки из личного фонда Преснякова в Научном архиве СПбИИ РАН2, нельзя считать завершенным, поскольку в значительной части не изданной остается обширная научная и дружеская переписка историка начиная со студенческих лет [5].
Обдуманные, точные и вполне зрелые размышления 20–25-летнего молодого человека о своем будущем в науке, своих интересах, способностях, перспективах, а также об учителях, академических нравах, научной этике открывают социальную проекцию науки рубежа XIX–XX веков, но актуальны и сегодня. В эпистолярном наследии А. Е. Преснякова с редкой откровенностью, детализацией и беспристрастностью отражается социология науки и интеллектуальной деятельности вообще и, в частности, научный быт сообщества петербургских историков того времени. Но, конечно, ярче всего в нем отражается личность пишущего, человека чрезвычайно и разносторонне талантливого, много работающего, который избрал путь историка и университетского преподавателя как одну из нескольких возможных социальных траекторий. При этом он сделал свой выбор далеко не сразу, после серьезных сомнений, разочарований, смены форм деятельности, на фоне внешних вызовов, личных и семейных происшествий.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ
И ЛИЧНОСТЬ А. Е. ПРЕСНЯКОВА
Биограф не может не задаться вопросом: как много, в сравнении с коллегами по цеху, успел Пресняков за 35 лет активной творческой и педагогической деятельности? Что содействовало и что препятствовало его научной карьере? Как оценить его научную продуктивность, научное влияние, особенно заметное на пике научноадминистративных успехов 1920-х годов, когда он возглавил кафедру русской истории в ЛГУ и одновременно преподавал в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, Институте красной профессуры, руководил Историческим научноисследовательским институтом при университете, наконец, стоял у истоков Ленинградского отделения РАНИОН и его русской секции?
Преснякова отличали широта интеллектуального горизонта, способность работать в нескольких научных направлениях, интерес к научной методологии и философии. Он, по общему признанию, был человеком универсального диапазона интересов, искал глубокого исторического и философского знания, выходя за тематические рамки одной проблемы, предполагаемой «диссертации». При этом ему было присуще чрезвычайно взыскательное отношение к себе и коллегам по цеху. Свои убеждения и представления об академических отношениях, их нормах и границах, как и свое кредо в науке, Пресняков сформировал очень рано, еще в студенчестве, чему в немалой степени способствовало раннее и тесное вхождение в круг своих учителей и стар- ших коллег. С этими представлениями он соотносил свои карьерные и жизненные решения как в молодости, так и в зрелые годы.
Что касается черт личности Преснякова, то в его научном поведении и в отношении к жизненной повседневности наблюдается редкое единство. Научный и «жизненный» миры Преснякова нераздельны, а стержнем, организующим началом этого единства оказывается достаточно строгая этика. Его отличал идеализм общественных взглядов, которым он, несомненно, был обязан воспитанию матери-«шестидесятницы», Марии Пафнутьевны, а также раннему приобщению к демократической литературе и журналистике. При этом жизнелюбивому, отличавшемуся разносторонними духовными запросами юноше было присуще стремление к гармонизации и эстетизации жизни. Его принадлежность к историческому сообществу задавала направление деятельности, но горизонты духовного мира Преснякова были много шире исторической науки как поля приложения сил. Архив Преснякова открывает его как разностороннюю личность, интеллектуала-гуманитария, педагога, публичного человека с либеральной общественной позицией и обширными связями, притом – человека культуры Серебряного века, утонченного ценителя музыкального искусства, живописи, литературы. Эстетизм Преснякова ярко отражен в его дневниках и переписке. Концертам и музыкальным вечерам в дружеском кругу молодой Пресняков уделяет не меньше времени, чем занятиям историей. Он, безусловно, был человеком музыкально одаренным, но не как исполнитель, а как слушатель. Он не решался петь в собраниях кружка профессора-скандинависта Г. В. Фор-стена, где разбирались партитуры новых опер и устраивалось совместное музицирование, но Форстен советовал ему учиться пению. Пресняков в юности был завсегдатаем Тифлисской оперы, музыкальных залов Петербурга, в зрелые годы дружил с актерами МХАТа В. В. Лужским и И. М. Москвиным. Это был искушенный театрал, ценитель литературных новинок, живописи, пластического искусства, что можно понять из его дневников и писем. Живой эмоциональный интерес к искусству историк сохранял на протяжении всей жизни. А. Л. Шапиро, бывший в середине 1920-х годов студентом Преснякова в Педагогическом институте им. А. И. Гер-цена3 и наблюдавший его в последние годы жизни не только на кафедре, но и в повседневном общении, говорил, что о музыке он мог беседовать часами. По тонкости и точности его характе- ристик произведений не только музыки, литературы, но и живописи можно судить о том, что при желании Пресняков мог бы выступать в амплуа театрального и литературного критика постоянно, а не эпизодически, как это было в действительности. Разумеется, его живо интересовала современность. Те или иные политические события и потрясения он понимал и интерпретировал глубоко, с позиций демократически мыслящей и европейски ориентированной интеллигенции, не только в письмах, но и в печатных выступлениях. Известны его отклики на думские дебаты в умеренно-либеральных газетах «Дело», «Речь» и др. Особенно внимательно он отслеживал дискуссии по польскому вопросу. По своей позиции и общественным связям он был близок «академической группе» в Государственной думе.
Еще одно важное качество личности Преснякова – независимость. Он формировался как свободный человек, не имевший нужды кланяться, искать протекции, говоря современным языком, «пробиваться». Дворянин, сын крупного чиновника, начальника Закавказской железной дороги, Евгения Львовича Преснякова, в студенческие годы он не нуждался в заработке, получая постоянное содержание от отца. Эти выплаты были сохранены по окончании обучения, когда Пресняков создал собственную семью, имел троих детей, преподавал, и продолжались вплоть до смерти отца. Независимость как черта характера естественным образом переходит в независимость научного мышления и профессионального поведения. Неслучайно Пресняков без пафоса пишет о фактах научной повседневности: диспутах, рефератах, новых книгах коллег, без хвастовства или ложного кокетства – о собственных достижениях. Уже по студенческим письмам можно заметить, что в мотивации его профессиональных действий и жизненных решений нет места тщеславию и карьеризму. Перегруженный такими отношениями официальный, внешний образ науки Преснякова совсем не вдохновлял. Вот что сообщал он в августе 1893 года из Вильны, с IX Археологического съезда, где впервые выступил перед широкой аудиторией с результатами своих исследований о Московских летописных сводах:
«Пребывание на археологическом съезде – самое нелепое времяпрепровождение, которое можно себе представить. Утром и вечером заседания, в промежутке обед, после – чаепитие и болтовня, писать некогда, да и трудно, потому что настроение раздробленное, сосредоточиться нет никакой возможности, читать не- мыслимо, даже думать отвыкнешь. Толчея и толчея, суета сует. Приобретешь тут немного, кроме впечатлений от разных лиц, впечатлений любопытных, даже ценных, и впечатлений от ученой среды, грустных и неприятных. Ученое чинопочитание и ученое генеральство, закулисные счеты и расчеты, – этим добром хоть пруд пруди. На съезде читают рефераты, то плохие, то так себе, а совсем хороших было 2–3» [7: 106].
Столь критически молодой историк отнесся к научным коммуникациям 1890-х годов, которые объединяли всех, занимавшихся восточноевропейскими древностями: историков, филологов, источниковедов, археологов.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИЛИ НАУКА?
Проявлением стремления к независимости было то, что в начале пути Пресняков не собирался быть только кабинетным ученым и преподавателем. Наука поначалу казалась молодому человеку лишь игрой ума наряду с другими не менее интересными занятиями и увлечениями. Главное, в его представлении наука не должна была ограничивать полноту семейного счастья, тем более что научные штудии и преподавание как раз не обещали прочного материального положения. Об этом молодой Пресняков мыслил реалистически. Потому-то замедлилось и фактически на десятилетие задержалось его вхождение в научное сообщество, хотя все условия для его «посвящения в науку» сложились уже в 1893 году, когда получила признание мэтров (К. Н. Бестужева-Рюмина и Н. П. Лихачева) его студенческая работа о «Царственной книге», и он как наиболее способный из сокурсников был оставлен Платоновым на кафедре. Однако для самого Преснякова выбор еще не был ясен.
После блестящего начала Пресняков вступил в десятилетие «расточения сил», на что сам постоянно сетовал. Это было вызвано необходимостью обеспечивать семью: спустя два года по окончании университета состоялась его женитьба на Ю. П. Кимонт, которой он долго добивался.
Пресняков не противопоставлял карьеру кабинетного ученого карьере профессора, «увлекающего» аудиторию, не пренебрегал и «ремеслом», трудом ради заработка. Он писал в конце 1892 года:
«Писать все-таки – если есть что – пожалуй, желательнее и существеннее, чем читать. Во всяком случае, второе и должно идти за и рядом с первым. Резюме: надо много учиться, не претендуя пока на высокое учительство профессора, и надо жить – ergo взяться за ремесло, которое в то же время хорошее и живое дело – учительство гимназии, жить не в пыли архивов, а с людьми, с милыми, дорогими людьми» [7: 63].
В декабре 1892 года он писал матери: «Я не такой преданный науке субъект, чтобы только ею наполнить свою жизнь – заметь: не профессурой, не преподаванием – а наукой, личными учеными занятиями» [7: 67]. Зато его вкус к «учительству» проявился быстро. Если в год окончания университета, получив первые уроки в гимназии, Пресняков побаивался преподавания и тяготился им, то вскоре эта форма самореализации, абсолютно отвечавшая его открытой натуре, глубоким знаниям и концептуальности мышления, стала потребностью. В 1890-х – начале 1900-х годов он одновременно преподавал в Женском педагогическом институте, Сиротском институте императора Николая I, частных гимназиях кн. А. А. Оболенской и С. Л. Таганцевой, давал уроки сыновьям великого князя Константина Константиновича, читал лекции на Бестужевских курсах и в Народном университете.
Особенностью профессиональной траектории Преснякова-историка стало движение от проблем преподаваемых курсов к их научному осмыслению. Примерно к 1900 году, сдав все магистерские экзамены и пробыв год стипендиатом Академии наук, наполовину написав диссертацию о позднем Московском летописании, Пресняков постепенно отошел от этой темы. Он охладел к слишком кабинетной узко-источниковедческой теме магистерской диссертации, хотя много времени продолжал уделять работе в Академии наук по изданию Полного собрания русских летописей. Еще через несколько лет, начав в 1907 году преподавание в университете в статусе приват-доцента, он переключился на политическую историю древнейшего периода русской истории, из чего выросла магистерская диссертация «Княжое право в древней Руси», защищенная в 1909 году.
Каков был образ Преснякова как человека за профессорской кафедрой? А. Л. Шапиро, готовя в последние годы жизни переиздание своего лекционного курса по историографии, оставил содержательные заметки о Преснякове-профессоре. Шапиро особо отмечал логику лекций Преснякова, его способность в немногих положениях выразить суть проблемы, говорить просто о сложном. Широта научного диапазона Преснякова привлекала к нему и «красное студенчество» 1920-х годов, и «академистов». По словам Шапиро, Пресняков признавался, что ему все интересно, «от доистории – до Ленина». Автор курса «Русская историография» высоко оценивал долговременное влияние Преснякова на последнее поколение учеников – через его семинарий и личное общение. Младшими учениками А. Е. Преснякова можно по праву считать самого А. Л. Шапиро, а также Б. Г. Плющевского (1912–1998). Последний преподавал в Ижевском пединституте, а затем в Удмуртском университете до 1990-х годов, оставив сильную школу историков русского Средневековья и русского крестьянства [4].
Преснякову все больше нравились многолюдные аудитории, популяризация исторических знаний. В 1910-х годах он читал лекции в спортивно-просветительском обществе «Маяк», в так называемом «народном университете», выезжал с лекциями на летние учительские курсы в Рязань (1913), в только что открытый Саратовский университет и т. д. Как преподаватель Пресняков привлекал не только логикой и точностью формулировок, которые отражают его опубликованные лекции, но и одушевленностью, яркой манерой изложения, отличавшей его, например, от суховатого «догматика» Лаппо-Данилевского. Недостатки и достоинства преподавания Лаппо-Данилевского он ясно видел, посещая его лекции в 1892 году в числе немногих:
«Он большая умница, с разносторонней ученостью и с философским складом ума, слишком логичного и систематичного, чтобы быть широким, но очень сильного. Бестужев прав, сравнивая его с Чичериным, а это сравнение почетное, хотя и незавидное, п[отому] что такие догматики, как Чичерин и Лаппо, не имеют живого влияния, хотя и дают хорошую школу» [7: 112].
Собственное преподавание Преснякова шло не в узком кругу учеников, его лекции адресовались широкой аудитории: студентам, слушательницам Высших женских курсов (ВЖК) и Женского педагогического института (ЖПИ).
ВНУТРИ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИКОВ»
Пресняков «перерос» свою магистерскую диссертацию и остыл к ней эмоционально задолго до ее завершения, которое все откладывалось: из-за перегруженности посторонними занятиями, семейными делами, преподаванием, научными заказами вроде энциклопедического словаря или участия в юбилейных изданиях. Однако на «вторые роли» внутри того научного направления, к которому он считал себя принадлежащим, он не был согласен. При этом Преснякову быстро становится тесен сюртук «платоновского ученика». Он стал так же необходим
Платонову, как Платонов ему, отношения их превратились в отношения научного равенства и партнерства. Постоянно возвращаясь в письмах 1890-х годов к разговору о причинах замедления своей ученой карьеры, Пресняков считал важнейшими из них «не внешние, а внутренние»:
«Я люблю свою науку и вовсе не отстаю от нее, но люблю ее такой, как я ее понимаю, а это совсем не платоновская наука. Не моя вина, что без глубоко философского элемента, с одним геллертерством – история меня не увлекает. Исправиться от этого прегрешения я не могу, ибо я, конечно, прав в своем понимании дела. И близкие для меня по интересам – это Милюков, Лаппо-Данилевский, отчасти Форстен. Учеником Платонова в настоящем смысле слова – я не могу быть. Я очень ценю его, учусь у него многому, но все это для меня второстепенно, материал, а не наука. <…>. Если из меня что-нибудь может выйти, то не потому, что я protégé Платонова» [7: 305].
Привлекательными чертами личности Преснякова были общительность, доброжелательность, веселый нрав. Неслучайно его научные контакты всегда оживлялись, дополнялись неформальным общением, а последнее давало новые творческие импульсы. Если верно, что «наука есть… совокупность форм повседневной жизни, которой живут люди, именующие себя учеными» [1: 5], то социально-бытовые рамки научной повседневности, качество ученых коммуникаций, безусловно, отражаются на научных результатах. «В келье под елью не много сделаешь», – шутил Пресняков [7: 114]. И действительно, роль «кружков» в его педагогической и академической работе была велика, как и его роль в этих кружках, начиная от кружка «русских историков» Платонова, кружка «форстенят», чьи интересы выходили далеко за рамки науки и преподавания; впоследствии круга его собственных учеников, который сложился на исходе 1910-х годов. Этот последний в первые советские годы пересекался с «кружком молодых историков» Петрограда, группой научной молодежи, которая сложилась в руководимой Пресняковым русской секции Ленинградского отделения Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. В 1919/20 академическом году, когда аудитории университета были пусты и не отапливались, его «семинарий», превращенный в «кружок», собирался на квартире Преснякова на Надеждинской улице. В сравнении с «платоновским» кругом это сообщество было более открыто, включало молодых ученых, специализировавшихся по истории Запада и международных отношений, истории русского революционного движения. Эти научные направления увлекли в последнее творческое десятилетие и самого Преснякова. Пресняков мог не быть официальным научным руководителем участников своего семинария, но впоследствии люди совершенно разных научных интересов и политических взглядов, такие как А. Н. Ше-бунин, Н. Ф. Лавров, А. В. Предтеченский, М. Н. Мартынов, отмечали важность своего научного общения с ним. Ближайшими же его учениками, с которыми были выстроены долговременные отношения, были Б. А. Романов и С. Н. Чернов.
ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ КАК ОСНОВАНИЕ НАУЧНОГО УСПЕХА
В течение всей жизни Пресняков берег как главные ценности и опоры не только свой дружеский, но и семейный круг. Это отношение не отвлекало его от науки, а, напротив, мотивировало. Амбициозным ли человеком и ученым был Пресняков (амбициозность, конечно же, условие научной продуктивности и научного влияния). Конечно, да. Но эта амбициозность была своеобразной. Скромный, самокритичный, беспристрастно оценивающий и даже часто преуменьшающий свои способности и результаты, Пресняков старался стать «научной величиной», прежде всего чтобы оправдать надежды самых близких людей: матери и жены, Юлии Петровны. Эта интенция преобладала в пору его научного становления, примерно 15 лет, включая переход на историко-филологический факультет университета и утверждение его позиций как ведущего преподавателя ВЖК, ЖПИ и ведущего сотрудника Археографической комиссии по изданию летописных памятников. Это было своеобразное «превращенное» честолюбие. «Ю. П. – мое честолюбие», – откровенно писал он матери в 1894 году, задолго до свадьбы [7: 142]. Это объяснение касается всех профессиональных, жизненных дел и успехов, освещенных светом любви. Наверное, Юлия Петровна была достойна такого отношения. Она поддерживала Преснякова, погружалась в его дела, дружила с его друзьями. Именно ею собраны, сохранены, а затем переданы в архив все письма мужа.
Это «превращенное честолюбие», пожалуй, и есть главная доминанта в творчестве Преснякова, отличавшая его от многих коллег. Главным мотиватором творчества, источником вдохновения и сил для него стала любовь, единственная, пожизненная, всепоглощающая, а также способность жить не только своими амбициями, но и интересами друзей, а впоследствии и учеников. Такие люди, живущие «не для себя», причем легко и естественно, умеют быть счастливыми.
Пресняков по складу своей личности инстинктивно искал внутренней гармонии и находил ее. Счастье и душевное равновесие неизменно отражаются на том, что и как человек делает. А счастьем взаимной любви была окрашена вся жизнь Преснякова, и это тоже «индивидуальный» фактор его творчества. Семейное счастье сложилось, несмотря на огромные препятствия, которые пришлось преодолеть на пути к браку с Ю. П. Кимонт, девушкой из консервативной польской дворянской семьи. Семья с трудом могла примириться с выбором дочери. Принять в дом русского, а не поляка, да еще не помещика и не чиновника, а молодого ученого без видов на серьезную карьеру Кимонтам вначале казалось решительно невозможным. Однако Пресняков добился согласия родителей возлюбленной, сумел создать условия для семейного счастья, которое стало главным стержнем его «приватного» мира и условием научной активности. Гармоничный мир семьи удавалось сохранить несмотря на то, что горе ее не миновало: двое из пятерых сыновей Пресняковых, в том числе первенец Петр, умерли в раннем детстве. И все же о Преснякове вспоминают как о редкостно счастливом человеке. Точнее было бы сказать, что благодаря найденной гармонии семейных и дружеских отношений он в любых обстоятельствах обнаруживал способность быть счастливым. Он сам это прекрасно понимал:
«Хорошо тому, у кого в сердце своем есть что-то спасающее от подавленности, свой родимый источник любви к жизни, к людям, любви и веры в них, в жизнь и людей. <...> А много ли таких, незаслуженно одаренных счастьем, полных любовью, радостью и болью, жизнью и жаждой жизни, верой глубокой – сердца, что бьется постоянно и полно дорогим именем?» [7: 782].
ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Репутация ученого, в отличие от успехов, выражаемых количественными показателями, – вещь более стойкая, она формируется в течение всей жизни и закрепляется посмертно. Научные принципы и стиль научного поведения Преснякова в коллективной памяти сообщества историков остались как безупречные. То, что путь ученого не усеян розами, Преснякову было очевидно еще в студенчестве. Завершение процесса институционализации человека в науке он обоснованно связывал с получением профессорской кафедры, высшей позиции в университетской научной ие- рархии. Ни магистерство, ни приват-доцентство в то время не могли дать прочного профессионального положения и сносного достатка, избавляющего от беготни по урокам. Рефлексируя на эту тему, он объяснял родителям, далеким от научной среды, но ожидающим блестящих и скорых успехов от сына, что путь к профессорскому званию, которое открывает возможность чтения «общих курсов» и формирования собственной научной школы, длительный и трудный.
Причиной неизбежных сложностей в ученой карьере Пресняков считал свое понимание целей науки и средств, приемлемых для него на пути к успеху. Он писал:
«Я на это дело так смотрю: наука, умственные интересы и т. д. – это одно, а ученая карьера – другое, которая должна сама к первому приложиться, а гнуть первое под второе – дело нежелательное. Надо стать в самом деле ценной величиной, и тогда более широкий путь сам собою откроется. А иначе – не стоит. Неужели ты, мамочка, хотела бы видеть твоего Саню профессором, который пролез в это звание с трудами, написанными ради получения ученой степени, но посредственного достоинства? Я не хочу умножать числа quasi-ученых, написавших книгу и читающих лекции, хотя им – по совести – нечего сказать с кафедры. Я учусь и учусь, а что из этого выйдет – это как Богу угодно» [7: 305–306].
Однако «идеальная наука» и система отношений в ученой среде для него не одно и то же. В своем понимании науки как мира абсолютных ценностей Пресняков – продукт эпохи позитивизма. Он идеалист в той мере, в какой отдавал предпочтение бескорыстному отношению к науке, был готов к интеллектуальной самоотдаче и требовал того же от других. Подобный максимализм отличал не только его, но и других талантливых представителей петербургской школы. Лаппо-Данилевскому, например, был свойствен еще более жесткий максимализм в определении целей науки и критериев научности, что привело его к гипертрофированному критицизму и бесконечным поискам в области методологии.
Причины замедленности научной карьеры, видимого «неуспеха» на этом пути для Преснякова прежде всего субъективные, этического порядка. В своих представлениях о целях науки, о профессионализме историка Пресняков категоричен и притом совершенно современен. Его замедленное по понятиям исторического сообщества карьерное восхождение – не только следствие стремления вначале обеспечить семью, а уже затем создавать себе имя в науке. Это и оборотная сторона универсализма умственных интересов, потребности освоить смежные обла- сти знания, полидисциплинарности его научного мышления. Добавим выраженное в поведении Преснякова отношение к науке не как «кормушке» или «служебной лестнице», а как к служению идеалу. Не один Пресняков обречен на тернистый путь из-за своего максимализма и разносторонности интересов, многие его товарищи по университету и друзья-«форстенята» следовали в той же академической колее. При этом Пресняков сознавал, что его трудности в значительной степени порождены неразработанностью русской истории как научного поля. «Наша наука вовсе не наука, и я мучаюсь над попытками выделить из ее задач то, что хоть сколько-нибудь научно», – писал он [7: 118]. Ему иногда казалось, что в другой области он сделал бы больше, с меньшей затратой сил. В одном из писем матери он сетовал, что, в отличие от зарубежной историографии, значительно продвинувшейся по пути специализации исследований, что открыло простор для обобщения «фактов», российским историкам приходится заниматься «критикой отдельных источников», как это принято в петербургской школе, что затрудняло поиск исследовательской перспективы [7: 72]. Неудивительно, что его поиск затянулся на полтора десятилетия. При постоянном тяготении к истории средневековой Руси, источниковедческим исследованиям Пресняков в это же время задумывался то об исследовании правления Елизаветы Петровны, то об истории Сената. Не однажды он пересматривал направление своей «диссертации», продолжая каждодневную работу над изданием русских летописей.
Выбирая науку, Пресняков ощущал огромную ответственность и часто сомневался в своих силах, не только интеллектуальных, но и нравственных:
«Наука, что сцена; если быть тенором – так на первые роли, а петь лакеев да юнцов не стоит. <…> Вопрос в том, может ли моя голова вырабатывать свои оригинальные мысли или нет. <…> Вся суть в том, какую “научную величину” из себя представляешь, есть ли в тебе что-ниб[удь] ценное, интересное, свое, оригинальное. Тут вопрос может быть решен после многолетней работы над собой, когда разовьешь и в систему сложишь то, что в голове зародилось и бродит. <...> А то, чем я буду жить, и над чем я буду работать – это учительство и учительство» [7: 69].
В диалоге с матерью Пресняков не отождествлял науку с общественной миссией, как делали ее популяризаторы вроде Т. Н. Грановского. Наука – совокупность процедур, кропотливая работа с источниками, система критического мышления.
Он писал в 1892 году по этому поводу, что романтическая приверженность к «красивым мыслям» осталась в прошлом и не соответствует позитивистским канонам «доказательности» и «скептического анализа», на основе которых «можно построить систему взглядов – и хороших, и научных» [7: 90]. Профессор-историк, по его мнению, должен «преподавать взрослым цельную выработанную систему воззрений», философски обоснованных и имеющих научный характер. «Без того мало толку торчать на кафедре», – отмечал он. Такое состояние ума, считал Пресняков, может быть достигнуто в результате многолетней кабинетной работы, что ставило перед ним вопрос:
«Можно ли профессуру ставить целью, программой всей жизни? Это идеал, почти мечта, которую можно, нужно иметь в виду, но в счет практических соображений для плана жизни вводить нельзя» [7: 62–63].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, качества личности, этические и научные основания академической траектории, избранной и пройденной Пресняковым, оказались тесно и гармонично взаимосвязаны. В каждый момент своего научного пути он стремился к равновесию между личными амбициями и научными принципами, к соответствию между своими научными силами и ожиданиями со стороны близких, учителей и коллег. Необходимость такого равновесия мыслилась им как условие самоуважения и, в конечном счете, идеальной жизни. Тщеславию и карьеризму на этом пути не было места. Эти максимы были высказаны многократно и приняты в качестве жизненной программы в самом начале пути в профессию, в годы студенчества и магистерства.
Спустя полтора десятилетия после блестящего начала ученой карьеры, наполненных ежедневным трудом, научными поисками, прорывами и отступлениями, в 1907 году Пресняков без особого трепета воспринял свое вступление на университетскую кафедру в скромном статусе приват-доцента. Он начал чтение лекций по истории Киевской Руси и обрел нескольких учеников в объявленном им «семинарии». В 1908 году он стал экстраординарным профессором ВЖК и только в июне 1918 года, после защиты докторской диссертации, был утвержден ординарным профессором историко-филологического факультета Петроградского университета. К тому времени Пресняков достиг пика своей научной продуктивности, сформировал собственную научную школу, получил признание как крупнейшая величина в области русской истории.
Список литературы Научные амбиции vs этические принципы: особенности академической карьеры А. Е. Преснякова
- Александров Д. А. Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3-32.
- Брачев В. С. А. Е. Пресняков и петербургская историческая школа. 2-e изд. СПб.: Астерион, 2011. 239 с.
- Жуковская Т. Н. А. Е. Пресняков и марксизм: опыт историографической демифологизации // Россия в XIX-XX вв.: Сб. ст. к 70-летию Р. Ш. Ганелина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 28-40.
- Историки Петрограда-Ленинграда (1917-1934) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld/3262-plusevskij-boris-grigorevic.html?ysclid=l7ouba7jqg877200437 (дата обращения 21.06.2022).
- Переписка А. Е. Преснякова с друзьями 1890-1899 / Подгот. текста, вступ. ст., коммент. Т. Н. Жуковской // Мир историка: Историографический сборник / Ред. В. П. Корзун, А. В. Якуб. Вып. 3. Омск, 2007. С. 376-438.
- Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Северо-Восточная Русь и Московское государство / Подгот. к изд. Б. А. Романова (1940), подгот. к публ. А. В. Карпова (2020) по коррект. Б. А. Романова; Под ред. Б. С. Кагановича и В. Г. Вовиной-Лебедевой. СПб.: Нестор-История, 2020. 356 с.
- Пресняков А. Е. Письма и дневники. 1889-1927. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 967 с.