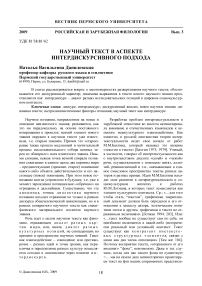Научный текст в аспекте интердискурсивного подхода
Автор: Данилевская Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (3), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о закономерностях развертывания научного текста; обосновывается его дискурсивный характер; динамика выражения в тексте нового научного знания представляется как интердискурс - диалог разных исследовательских позиций в широком социокультурном контексте.
Дискурс, интердискурс, дискурсивный анализ, новое научное знание, динамика текста, экстралингвистические факторы познания, научный текст как интердискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14728758
IDR: 14728758 | УДК: 81?38:81?42
Текст научной статьи Научный текст в аспекте интердискурсивного подхода
Научное познание, направленное на поиск и Разработка проблем интертекстуальности в описание неизвестного знания, развивается, как это ни парадоксально, на основе постоянного возвращения в прошлое: всякий элемент нового знания окружен в научном тексте уже известным, т.е. старым знанием. Причем это «старое» ранее также прошло медленный и мучительный процесс исследовательского отбора ценных зерен из обширного поля известного знания. Иными словами, всякая точка вечной спирали познания схватывает в единое целое две картины мира – предшествующее (прежнее, старое) понимание какого-либо объекта действительности и его настоящее (новое) понимание. При этом новое понимание всегда устремлено в будущее, т.е. уже в момент зарождения потенциально «обречено» на отрицание в дальнейшем. Существенно, что эта дин ами ка, точнее, ди ал ектика научного познания находит отражение не только в рамках дискурса общечеловеческой цивилизации, но и в рамках конкретного научного текста как специфического материального носителя научного знания.
Речь идет о целом научном тексте как феномене, отражающем ди ал ог р азных кар -тин мир а, или, иначе, диалог р азных культурных позиций, не совпадающих во времени и пространстве научных мнений. Текст как взаимодействие – совпадение или противоречие – разных идей и точек зрения, как перекличка и переплетение разных культур осмысляется сегодня в лингвистике через понятие ин -тердискурса.
зарубежной семиотике во многом активизировала внимание и отечественных языковедов к аспектам межкультурного взаимодействия. Как известно, в русской лингвистике теория интертекстуальности ведет свое начало от работ М.М.Бахтина, который называл это явление «текстом в тексте» [Бахтин 1975, 1979]. Ученый, в частности, говорил об интертекстуальности как о внутритекстовом диалоге «своей» и «чужой» речи, осуществляемом с помощью цитат, аллюзий, реминисценций и т.п., связывающих в единое смысловое пространство тексты разных авторов и разных времен. Идеи М.М.Бахтина находят свое развитие в литературоведческом и социокультурном аспектах в работах Ю.М.Лотмана, в которых текст осмысляется как элемент культурного контекста. Ср.: «…для того чтобы стать “текстом”, графически закрепленный документ должен быть определен в его отношении к замыслу автора, эстетическим понятиям эпохи и другим, графически в тексте не отраженным величинам» [Лотман 1994: 203]. Или: «…текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как к онтр аг ент в н ет екст о -вых структурных эл ем ентов, связан с ними как два члена оппозиции» [Там же: 104]. Поэтому восприятие текста, «оторванного от его внешнего “фона”, невозможно. Даже в тех случаях, когда для нас такого фона не существует <… мы на самом деле антиисторично проектируем текст на фон наших современных представле- ний, в отношении к которым текст становится пр оизв ед ени ем» [Там же: 213].
Подобное толкование интертекста составляет «широкую», или «радикальную», концепцию интертекстуальности как теорию безграничного текста, интертекстуального в каждом своем фрагменте. Между всеми созданными («чужими») и создаваемыми («своими») текстами существует общее интертекстуальное пространство (Кристева 1969), поэтому восприятие текста есть непрерывное чтение в бесконечном тексте (Барт 1989), которое осуществляется благодаря воспринимающему сознанию читателя (Пфистер 1985) [анализ иностранной литературы по этому вопросу см.: Чернявская 2004].
При таком широком понимании интертекстуальности оказывается, видимо, невозможным анализ отношений разных смыслов в конкретном тексте, а лингвистика лишается своих исследовательских задач. В связи с этим немецкие ученые Р.Лахманн и К.Штирле предложили различать (1) диалогичность как всеобщее измерение текста и (2) диалогичность как особый способ построения смысла, как диалог своего и чужого мнения [Чернявская 2004: 31]. В результате сформировалась «узкая» модель интертекстуальности, в рамках которой об интертексте следует говорить тогда, когда мы имеем дело с намеренно обозначенными автором текста соотношениями своей и чужой смысловыми позициями. Собственно говоря, именно так и понимал М.М.Бахтин диалогичность художественного произведения. Именно так, в узком смысле, интерпретируется интертекстуальность в настоящей статье.
Осмысление феномена текста в интертекстуальном аспекте обеспечивает лингвистическим исследованиям несомненно бóльшую глубину и масштабность при определении не только структурно-смысловых, но и типологических особенностей текстов разных стилей [Кожина 1986, Караулов 1987, Фатеева 1998, Чернявская 1999 и др.]. Однако для нас важно то, что в теории интертекстуальности содержательно-структурные особенности текста соотносятся с широким за-текстовым фоном коммуникации, что сближает интертекстуальный и функциональностилистический подходы к тексту.
Существенно также, что функциональностилистическое понимание текста по многим параметрам коррелирует с понятием дискурса, прочно вошедшим в последние годы в область лингвистических и в целом гуманитарных размышлений. В связи с этим решение вопросов, так или иначе связанных с проблемой текстооб-разования, предполагает сегодня, как кажется, обращение к теории дискурса и дискурсивного анализа. Это весьма актуально для исследований, посвященных изучению закономерностей тек-стообразования, и особенно – специфики выражения в научном тексте н ов ог о знания.
Не углубляясь в исторические корни теории дискурса, отметим, что само понятие дискурс стало реальностью современной науки во многом благодаря идеям В. фон Гумбольдта, затем – различению Ф. де Соссюром языка и речи, а также работам Э.Бенвениста и Л.Блумфильда, заявивших о важности в лнгвистических исследованиях человеческого фaктора и тем самым положившим начало смены структурной парадигмы языкознания на функциональную.
Основоположник современной западной школы дискурсивного анализа французский историк, социолог и языковед М.Фуко понимает под дискурсом общественно-исторически сложившиеся системы человеческого знания и практики. Дискурс – это «совокупность анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, экономического, географического или языкового окружения определили условия воздействия высказывания» [Фуко 1996: 29]. Следовательно, дискурсивный анализ, в понимании исследователя, основан на диахроническом и, что важно, динамическом подходе к языку, а главное, учитывает системный аспект его описания с выходом в проблему тр анс ф ор мац и и предшествующего знания. Отсюда ясно, что дискурсивный анализ теснейшим образом связан с экстралингвис-тическими факторами, их учетом и опорой на них. Ср.: «Описание дискурсных событий ставит перед нами вопрос: почему такие-то высказывания возникают здесь, а не где-либо еще? <…> Как увидеть высказывание в узости и уникальности его употребления, как определить условия его существования <...> обозначить его границы связи с другими высказываниями <…> установить <...> особый вид существования, который раскрывается в сказанном и нигде более?» [Там же: 31].
Таким образом, взгляд на высказывание как на дискурс способствует воссозданию картины мира (исторической, политической, экономической, национальной и др.) носителей языка, реконструкции духа времени. По замечанию У.Мааса, дискурс выражает соответствующую языковую формацию «по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике» [Цит. по: Чернявская 2001: 38].
Границы дискурса как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике не имеют четкого определения, поскольку он может пониматься – в зависимости от научной школы и исследователь- ских задач – и как речь, и как текст, и как высказывание. Однако важно, что всякое обращение к дискурсивному анализу предполагает выход в широкую экстралингвистическую область, как-то: функционирование языковой системы, говорящий при порождении дискурса, психологические особенности интерпретации содержания высказывания, а также исторический, политический, культурный и др. контексты живого общения, поскольку дискурс – это не просто текст с определенной содержательно-вербальной структурой, а нечто большее, напоминающее «узор или ткань, спл ет енны е из отношений-нитей с чем-то вн ешним, л ежащи м за пр ед елами текста» [Серио 1999: 37. Разрядка наша. – Н.Д.].
Все сказанное позволяет говорить о близости теории дискурса и функциональностилистической концепции текста (хотя, безусловно, эти теории, сохраняя индивидуальные черты и методологические принципы, не совпадают полностью). По мнению М.Н.Кожиной, общими чертами этих научных направлений являются: 1) предмет исследования – речь в ее разновидностях; 2) « общие параметральные признаки ключевого понятия (дискурса и функционального стиля)», среди которых: а) динамизм – «процесс использования языка, когнитивно-речевая деятельность», б) « детерминация изучаемого объекта экстралингвистическими факторами», в) « принцип системности при использовании языковых средств», г) историзм как дискурса, так и функционального стиля, д) « тексты ... как результат речевой (дискурсивной) деятельности... и в то же время материал исследования», е) междисциплинарный метод анализа», ж) ре чеведческий подход к интерпретации языковых явлений [Кожина 2004: 25-26, 30].
Таким образом, функциональностилистическое понимание текста весьма близко представлениям о дискурсе. Это позволяет использовать термины дискурс и текст в качестве синонимичных при исследовании стилевой специфики научного текста, в частности закономерностей его образования в плане выражения в нем нового знания. Тем более что принципы представления нового знания в речевой ткани произведения не являются, как свидетельствует наш многолетний анализ, ни спонтанными, ни индивидуальными для каждого автора, а соответствуют сложившимся правилам мышления, рече- и текстопроизводства в данной сфере общения. Ср. в связи с этим понимание дискурса как «предза-данного текстовым типом способа мышления, как системы наиболее общих когнитивных прототипов, правил речевого поведения, создающих – выстраивающих – особую системность и упо- рядоченность языковых единиц в текстовой ткани» [Чернявская 2004: 38].
В связи со сказанным (т.е. в аспекте функционально-стилистической интерпретации текста) вслед за М.Н.Кожиной дискурс можно понимать как « речь, разновидность речи как процесс использования языка в когнитивно-речевой деятельности, фиксирующийся в текстах, опирающийся на интрадискурсивность, обусловленный экстралингвистическими факторами (идеологическими, социокультурными, историческими) и представляющий определенную общность практики людей в качестве обобщенного субъекта высказывания (особый “ментальный мир” с его “духом времени”) » [Кожина 2004: 25].
Таким образом, понятия текст (= произведение ) и дискурс по многим параметрам совпадают. Отвлекаясь от несущественных для настоящей статьи различий этих феноменов, в дальнейшем будем употреблять обозначающие их термины в качестве синонимов.
В последнее время в лингвистической литературе наряду с дискурсом рассматривается понятие интердискурса . Как соотносятся эти понятия и что общего между ними и научным текстом?
По мнению М.Пешё, дискурс представляет собой некий преконструкт как «след в самом дискурсе пр ед ш еств ующи х ди с кур с ов, поставляющих своего рода “заготовку”, “сырье” для дискурсной формации» [Серио 1999: 41. Разрядка наша. – Н.Д. ]. Иначе говоря, дискурс – это одновременно и интердискурс, а именно результат интеграции многих дискурсов, соотнесенных содержательно и функционально в единое целое; это некий непрерывный во времени и пространстве коммуникативный процесс интеллектуально-духовной и культурно-исторической деятельности человека, объединяющей знание о том или ином предмете действительности в единую систему ценностей (ср. с понятием интертекста, о котором речь шла выше). Как отмечает В.Е.Чернявская, «концепцию безграничного интертекста, вбирающего в себя всевозможные текстовые системы и культурные коды.., следует конкретизировать как концепцию интердискурса, интегрирующего в единую систему человеческое знание, “распределенное” во многих специальных дискурсах» [Чернявская 2001: 19].
Вместе с тем интертекст и интердискурс, по мнению некоторых исследователей, не одно и то же, особенно если интертекст осознается в узком смысле (см. выше). Так, если под интертекстом чаще всего понимается воображаемый диалог автора с предшественниками и современниками, благодаря чему активизируется общий объем памяти между коммуникантами [Фатеева 1998:
173], то интердискурс связан с перекличкой в тексте разных ментальных пространств. По утверждению В.Е.Чернявской, интердискурс – это такое взаимодействие автора и интерпретатора, когда первый, «намеренно выстраивающий свое сообщение как игру – пересечение, взаимонало-жение, “монтаж” нескольких дискурсивных типов, решает задачу персуазивного, в той или иной мере манипулятивного воздействия на адресата» [Чернявская 2004: 38], а сознание второго (интерпретатора) «“переключается” в иное ментальное пространство и начинает “работать” с другими кодами, смыслами, системами знания при оценке... данного в тексте содержания» [Там же]. Интертекст , как намеренно маркированный диалог «своего» и «чужого», – пишет исследователь, – всегда эксплицитен, однозначно маркирован, интердискурс же – скрытое, имплицитное взаимодействие сознаний, разных ментальных миров [Там же]. При этом и интертекст и интердискурс выполняют текстообразующую функцию, являясь – каждый по-своему – особым способом создания нового смысла.
Как видно, представления об интердискурсе выходят за пределы текста как языковой структуры. Интердискурс – это нечто, сводящее в единое целое пласты (поля) разных человеческих знаний, причиной и условием объединения которых являются различные экстралингвистические факторы, и прежде всего цели и задачи общения, его тема, проблема и содержание. Не случайно, видимо, некоторые исследователи придают дискурсу (или интердискурсу) статус высшего уровня языковой системы, надстраивающегося над уровнем текста, поскольку именно дис-курс/интердискурс «как новый объект языкознания фокусирует исследовательские усилия на поиск общих прототипических закономерностей текстовой фиксации коммуникативных процессов» [Там же: 38; см. также: Миловидов 2003: 88]. Интересны также попытки представить в качестве высшего уровня семиотической системы культуру, а текст – как единицу культуры. Ср.: «текст... именно в составе культуры приобретает свою полную окончательную определенность: только зная культуру, в которую включается данный текст, мы получаем возможность постигнуть его наиболее глубокие смысловые пласты» [Мурзин 1994: 169; см. также: Лотман 1994, 1999].
Разграничение понятий интертекст (в узком значении) и интердискурс представляется нам вполне оправданным. Однако для анализа целого научного текста с точки зрения дин ами ки формирования и выражения в нем н ов ого н аучн ог о зн ания однозначное противопоставление дискурса и интердискурса не является актуальным; более того, при таком подходе данные явления оказываются весьма близкими, поскольку оба зиждутся на идее о взаимодействии (и взаимопредопределенности) разных контекстов (типов, фонов, «миров») знания в процессе текстопорождающей деятельности [Данилевская 2005]. Ср. в связи с этим мысль зарубежных ученых о том, что «социокультурная функция ин-тертекста/интердискурса заключена в реинтеграции и синтезе рассеянного знания» [Цит. по: Чернявская 2004: 41].
Так, применительно к научному тексту, анализируемому с точки зрения процесса взаимодействия (чередования) в нем старого и нового знания в процессе эвристического поиска, интертекстуальность реализуется посредством чередования высказываний, принадлежащих разным авторам: с одной стороны, это высказывания автора создаваемого текста, с другой – высказывания иных авторов, выступающие в речевой ткани как цитаты из предшествующих источников. Иными словами, научный текст как интертекст предстает прежде всего благодаря наличию в нем переклички авторской позиции с позицией/позициями оппонентов, т.е. благодаря диалогу между своим (новым) и чужим (старым) знанием (ср. намеренно маркированный диалог ). В этом же смысле реализацию интердискурсив-ности научного общения можно усмотреть в особой организации смысла текста, направленной не только на формирование и выражение новой идеи, но и на активизацию ментальной работы предполагаемого читателя, а также его убеждение. Однако в рамках эвристической деятельности невозможно полностью отграничить друг от друга диалог разных знаний (своего и чужого) и диалог (в том числе скрытый) автора с читателем, поскольку оба вида диалога составляют единство коммуникативно-познавательного процесса, и без этого единства адекватное научное общение, да и само развертывание текста, просто немыслимы.
Вместе с тем научный текст, рассматриваемый в аспекте становления и выражения в нем нового знания, считаем возможным понимать прежде всего как интерди скур с. Новое как носитель объективной научной ценности формируется посредством теснейшего переплетения с объемным массивом предшествующего знания и с опорой на него, а следовательно, научный текст функционирует именно как интердискурс, вбирающий в себя широкий фонд уже имеющихся дискурсов и потому требующий от реципиента активизации работы памяти и др. ментальных операций. В этом случае научный текст как интертекст (конкретизированный как диалог между своим и чужим мнением, между авторским тек- стом и предшествующими, а также, потенциально, и последующими) оказывается явлением более узкого порядка, входящим на правах составной части в интердискурсивность научного произведения (по принципу «часть – целое»). Объединенные в структурно-смысловом пространстве текста, эти два плана диалога знаний предполагают друг друга и составляют неразрывное единство, поскольку вместе формируют такое содержание текста, которое пригодно как для хранения и передачи научной информации, так и для функционирования в коммуникативнопознавательном акте.
Итак, целый научный текст, рассматриваемый в плане закономерностей формирования и выражения в нем нового научного знания с учетом динамики его вербального представления, а также с опорой на широкий экстралингвистиче-ский контекст познавательной деятельности, предстает, с одной стороны, как дискурс, с другой (при учете процессуальной природы формирования научных знаний вообще) – как интердискурс. Кроме того, научный текст, уточняемый как диалог исследовательских позиций (своего и чужого знания), выступает одновременно и как интертекст.
Professor of Russian Language and Stylistics Department
Perm State University
Список литературы Научный текст в аспекте интердискурсивного подхода
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном творчестве (1924)//Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 6-71.
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281-307.
- Данилевская Н.В. Роль оценки в механизме развертывания научного текста. Пермь, 2005.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.. М., 1987.
- Кожина М.Н. Дискурсный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций//Текст -Дискурс -Стиль: Сб. науч. статей. СПб., 2004. С. 9-33.
- Кожина М.Н. О диалогичности письменной научной речи. Пермь, 1986.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М., 1999.
- Лотман Ю.М. Текстовые и внетекстовые структуры//Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 201-234.
- Мурзин Л.Н. Язык, текст и культура//Человек -текст -культура. Екатеринбург, 1994. С. 160-169.
- Серио П. Как читают тексты во Франции. Вступительная статья//Квадратура смысла. М., 1999. С. 12-53.
- Фатеева Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе//Stylistyka VII. Opole, 1998. C. 159-178.
- Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
- Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований//Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса. СПб, 2001. С. 11-22.
- Чернявская В.Е. Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации. СПб, 1999.
- Чернявская В.Е. Текст как интердискурсивное событие//Текст -Дискурс -Стиль: Сб. научных статей. СПб, 2004. С. 33-41.