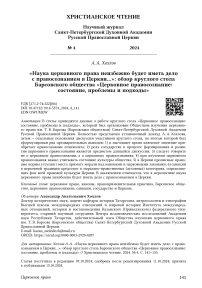«Наука церковного права неизбежно будет иметь дело с правосознанием в церкви…»: обзор круглого стола Барсовского общества «Церковное правосознание: состояние, проблемы и подходы»
Автор: Хохлов А.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся данные о работе круглого стола «Церковное правосознание: состояние, проблемы и подходы», который был организован Обществом изучения церковного права им. Т. В. Барсова (Барсовским обществом) Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви. Полностью представлен установочный доклад А. А. Хохлова, затем - отдельные положения дискуссии участников круглого стола, по итогам которой был сформулирован ряд предварительных выводов: 1) в настоящее время ключевое значение приобретает правосознание епископата; 2) роль государства в процессе формирования и развития церковного правосознания является предметом длящейся дискуссии; 3) следует говорить не о церковном правосознании, а о церковных правосознаниях; 4) при изучении церковного правосознания важно учитывать состояние культуры общества; 5) в Церкви прописные правовые нормы уступают место примату морали над канонами и церковными законами; 6) санкции в церковной традиции предстают в морально-нравственных (духовных) категориях, определяющих фон всей правовой культуры Церкви. В заключении отмечается, что в перспективе наука церковного права неизбежно будет иметь дело с правосознанием в Церкви.
Церковное право, каноны, правоприменительная практика, барсовское общество, церковное правосознание, санкции, государство и церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140308460
IDR: 140308460 | УДК: [271.2-74:322](06) | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_141
Текст обзорной статьи «Наука церковного права неизбежно будет иметь дело с правосознанием в церкви…»: обзор круглого стола Барсовского общества «Церковное правосознание: состояние, проблемы и подходы»
24 сентября 2024 года в Санкт-Петербургской духовной академии в рамках ХVI Международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки» в очно-дистанционном формате состоялся круглый стол «Церковное правосознание: состояние, проблемы и подходы».
Организатором мероприятия выступило Общество изучения церковного права им. Т. В. Барсова (Барсовское общество) Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви. Автором установочного доклада стал действительный член Барсовского общества Александр Анатольевич Хохлов.
В работе круглого стола приняли участие действительные члены Барсовского общества:
-
— протоиерей Александр Задорнов — кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин и проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии;
-
— Павел Иванович Гайденко — доктор исторических наук, профессор кафедры истории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, профессор кафедры исторических наук и архивоведения Московского государственного лингвистического университета, председатель редакционной коллегии журнала «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях»;
-
— Александра Андреевна Дорская — доктор юридических наук, профессор, заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия;
-
— Андрей Юрьевич Митрофанов — доктор исторических наук, доктор истории, искусств и археологии Лувенского Католического Университета, профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии;
-
— Сергей Федорович Веремеев — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и специальных исторических дисциплин Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Беларусь).
Также в мероприятии участвовали:
-
— протоиерей Георгий Митрофанов — доктор богословия, кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии;
-
— священник Владислав Баган — кандидат богословия, кандидат юридических наук, доцент кафедры богословских и церковно-исторических дисциплин Смоленской православной духовной семинарии;
-
— священник Никита Кузнецов — кандидат богословия, ректор Казанской духовной семинарии;
-
— диакон Николай Тарнакин — магистр теологии, выпускник аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии, помощник директора Издательства СПбДА;
-
— Ярослав Борисович Жолобов — кандидат юридических наук, директор СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей»;
-
— Сергей Олегович Шаляпин — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры государственного и международного права Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова;
-
— Ильшат Амирович Мухаметзарипов — ведущий научный сотрудник, директор Центра исламоведческих исследований АН Республики Татарстан;
-
— Татьяна Анатольевна Долгополова — кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства СПбГУ.
Открыл работу круглого стола А. А. Хохлов, выступивший с докладом «Правосознание и Церковь». Ниже приводится полный его текст.
А. А. Хохлов
Правосознание и Церковь
Правосознание — одна из самых сложных и неоднозначных категорий юридической науки. Ее невозможно рассматривать вне психологического (индивидуального и коллективного), исторического, социального, политического, морального и прочих контекстов. Проблема многократно усложняется, когда речь заходит о правосознании в религиозном измерении, учитывая тот факт, что имеют место точки зрения специалистов, оспаривающих базовое понятие «религиозное право» и постулирующих корректность определения «религиозная регулятивная система» [Мухаметзарипов, 2022, 22].
Несмотря на дискуссионный характер обозначенного тезиса, мы вынуждены признать, что рассуждения о церковном правосознании невозможны без обращения к опыту и достижениям светской юридической науки, поскольку наличие собственной правовой системы, а равно и правосознания, в Церкви очевидны, в то время как имеющейся теоретической базы для осмысления и определения рассматриваемого явления недостаточно. Исходя из этого считаем целесообразным рассмотреть данный вопрос сквозь призму его преломления как в современной юридической мысли, так и в церковной правовой традиции. Сделать это уместно на основе ранее сформулированных тезисов и расширенного к ним комментария.
Классическое определение понятия «правосознание» выглядит следующим образом. Правосознание — это представления и понятия, выражающие отношение человека или группы к действующему праву, знание меры в поведении людей с точки зрения прав и обязанностей, законности и противозаконности; правосознание — это правовая психология, правовая идеология и правовые теории.
Исследовательница Ю. К. Погребная отмечает, что «правосознание имеет двойственную правовую природу. Формируя знания о праве в сознании человека, оно само может выступать и выступает как средство воздействия на отдельные правовые институты, отрасли права или систему права в целом. Особое значение и ценность правосознание приобретает в обществе, правовая система которого стремится закрепить и реализовать общедозволительный тип правового регулирования» [Погребная, 2011, 8].
В современной юридической науке, как правило, выделяют следующие базовые признаки правосознания1.
-
1. Правосознание — субъективное явление, так как «оно состоит из представлений людей о праве и из субъективного отношения к самому феномену права, его ценностям».
-
2. Правосознание является одной из форм общественного сознания, тесно взаимодействующей с нравственными, религиозными, политическими и иными формами общественного сознания.
-
3. Правосознание выражает психическое и идеологическое отношение людей к праву и правовым явлениям (правотворчеству и правоприменению, законности и правопорядку, правомерному и противоправному поведению и т. п.).
-
4. Правосознание содержит в себе набор взаимосвязанных идей, эмоций, чувств, выражающих отношение общества, групп индивидов к праву.
Таким образом, правосознание выражает оценку права с точки зрения его справедливости или несправедливости, мягкости или строгости, совершенства или несовершенства, эффективности или неэффективности, достоинств или недостатков (см.: [Пырков, 2012, 39]).
Нетрудно заметить, что указанные подходы к определению церковного правосознания применимы лишь отчасти, что подчеркивает специфику его философского
(теологического), психологического и культурного профилей, делающих невозможным отождествление понятия в его светском и церковном вариантах. Тем не менее и полное противопоставление, радикальное акцентирование уникальности каждого из двух явлений было бы неоправданным упрощением системного подхода и даже пренебрежением им. Исходя из этого оптимальным видится выявление их сходств и различий при признании их сущностного родства.
Тезис 1. Церковное правосознание обуславливается исторической и социально-психологической ситуацией как в обществе, так и в Церкви, которая, будучи социальным институтом, является неотъемлемой частью общества и в целом развивается в логике присущих ему магистральных процессов. Таким образом, характер церковного правосознания в значительной степени есть результат отражения в сознании членов Церкви окружающей действительности. При этом, являясь продуктом последней, правовое сознание одновременно само активно воздействует на окружающую действительность на индивидуальном и групповом уровнях, последовательно реализуя через это свой трансформационный потенциал.
Учитывая, таким образом, что правосознание — категория не статическая, а динамическая, подверженная изменениям во времени и зависимая от конкретной обстановки или ситуации, общегражданское и церковное правосознание в конкретный период времени по ряду признаков могут совпадать, а в развитии — синхронизироваться. Альтернатива возможна только при достаточной степени изоляции некой части социума от макрогруппы (общества) и ее автономном существовании.
Обращаясь к правовым тенденциям, имеющим место в настоящее время в Российской Федерации, светские исследователи склонны говорить о переходном типе правосознания в нашем обществе. С их точки зрения, в правосознании переходного периода сохраняются черты прежней и отражается формирование новой правовой системы, в силу чего трансформации, присущие такому правосознанию, влияют на правотворческий и правоприменительный процесс субъектов права [Погребная, 2011, 8]. Однако в данном случае мы сталкиваемся с очевидной церковной особенностью: в целом, признавая и за церковным правосознанием статус переходного (показателем чего является хотя бы появление Барсовского общества и его деятельность2), говорить о формировании в Церкви качественно новой правовой системы и, как следствие, трансформациях по меньшей мере некорректно, поскольку вопрос о незыблемости, изменяемости канонических норм до сих пор однозначно не решен в церковной правовой науке и продолжает сохранять статус дискуссионного, непосредственно упираясь в еще более сложный вопрос о сущности канонического (церковного) права (рассуждение о чем будет представлено ниже). Переходный характер церковного правосознания — это скорее попытка реанимирования полноправия церковной правовой традиции в том ее виде и понимании, в каком она содержится в Предании. В итоге церковное правосознание, в сущности, смещается в сторону традиционного право-понимания (в социально-историческом смысле), исходя из чего может определяться не столько как перспективное , сколько как ретроспективное . Вместе с тем его одновременно отличает от традиционного наличие развитой регулятивной системы — писаного закона, с которым исследователи и связывают наличие правосознания как такового (см.: [Бочаров, 2012, 43]).
Данные многочисленных историко-правовых и сравнительно-исторических исследований исключают возможность полного отождествления правосознания представителей разных исторических эпох. Так, очевидно, что уровень правосознания в Церкви пореформенного времени (заключительного этапа синодальной эпохи) не может быть идентичен современному, поскольку исторические условия, в которых она себя сегодня реализует, принципиально иные. В качестве еще одного примечательного момента специалисты в области современной юридической науки отмечают сочетание в российском правовом сознании черт патернализма при формирующейся социальной активности в различных сферах гражданского общества. С нашей точки зрения, данную особенность уместно отнести и к церковному правосознанию, как и то, что «правосознание наряду с динамизмом обладает и устойчивостью, сопротивляемостью новым идеям и принципам» [Погребная, 2011, 9], в чем усматривается общечеловеческая психологическая универсалия и закономерности развития психической деятельности человека на различных уровнях ее организации. Социально-исторические условия (внешние общественные и внутренние церковные) при этом могут как способствовать росту, расширению и укреплению правового сознания, так и стимулировать его инволюцию. Определяющими в данном случае выступают два фактора: уровень правовой грамотности (мало иметь прописанный закон, его необходимо еще и знать) и правоприменительная практика, ограничивающаяся или, напротив, выходящая за пределы формальных подходов; отталкивающаяся от общепринятых правовых принципов или же ограничивающаяся их поверхностным соблюдением, а то и вовсе нивелированием.
Утверждая коллективный характер правосознания3, одновременно не следует упускать из виду его индивидуально-волевую составляющую, по-разному проявляющую себя в исторических реалиях и обстоятельствах. Двусоставной природой рассматриваемого явления диалектически утверждается неразрывность правового сознания субъекта деятельности и правовой действительности. Так, В. В. Бочаров подчеркивает, что носители даже схожих идеологий, как правило, обладают различным правосознанием (см.: [Бочаров, 2012, 26]). Таким образом, жесткая постановка вопроса в плоскость определения правосознания тех или иных общественных страт или групп приобретает условный характер. Тем не менее, учитывая специфику исторического развития Церкви и ее иерархический характер, ключевое значение приобретает правосознание епископата как целого и его отдельных представителей в частности, выступающего носителем власти, авторитетом и ориентиром для прочих членов Церкви.
Здесь мы вплотную подходим к обсуждению второго тезиса, а именно о влиянии культуры на церковное правосознание. Отметим, что применительно к поставленному вопросу целесообразным видится рассуждение прежде всего о культуре этнической и культуре корпоративной.
Тезис 2. Церковное правосознание находится в прямой зависимости от культуры и особенностей правоприменительной практики конкретного общества.
Понимая культуру в самом широком контексте — как совокупность сложившихся в обществе ценностей, норм, обычаев, верований и обрядов, а также знаний и умений, способов мышления, деятельности, взаимодействия, коммуникации и т. д., — мы склонны придавать ей одно из решающих значений в вопросе правосознания, его формирования, особенностей и проявлений. Понятие культуры в данном случае выступает как сложное явление, реализующее себя на индивидуальном и групповом уровнях в правовом, этническом и даже локальном аспектах. Итак, тип правосознания определяется культурой конкретного общества (см.: [Зырянов, 2012, 17]).
Говоря о России, необходимо сделать акцент на ее этническую культуру, сформировавшую особый тип мировоззрения и правового менталитета, отличающихся упором на субъективную морально-нравственную сторону действительности, зачастую в ущерб внешнему формальному регулированию актов поведения, осуществляемому посредством легитимированных обществом прописных норм. Так, И. Л. Соло-невич отмечал, что «русский склад мышления ставит человека, человечность, душу выше официального закона и закону отводит только то место, какое ему надлежит занимать» [Солоневич, 2002, 254]. Православный правовед В. В. Сорокин добавляет:
«Когда государственный юридический закон вступает в противоречие с человечностью, русское сознание отказывает ему в повиновении. Либеральная интеллигенция делает из этого факта нечистоплотное обобщение о правовом нигилизме русского народа. В действительности же, задолго до западноевропейской дискуссии о естественном праве, митрополит Илларион, основываясь на традиции христианского и русского миропонимания, написал труд „Слово о Законе и Благодати“, в котором впервые адекватно истолкована разница между законом и Правом. Формальному закону, согласно митрополиту Иллариону, противостоит жизнь по душе (а всякая душа — христианка), по Правде, по Божьим заповедям» [Сорокин]. Ему вторит и Л. А. Тихомиров: «Никогда русский человек не верил и не будет верить в возможности устроения жизни на юридических началах» [Тихомиров, 1905, 11].
Говорит ли все сказанное в пользу природного «правового нигилизма» русского человека и слабого правосознания — вопрос дискуссионный. С нашей точки зрения, речь идет скорее о глубоко специфичном, традиционном понимании права в народной культуре и драматичном опыте его реализации в повседневной жизни. Многочисленные подтверждения этой дихотомии мы находим в этнографической литературе в виде пословиц и поговорок: «Несчастному милость творить — с Господом говорить», «Милость — подпора правосудию», «Закон — дышло, куда пошел, туда и вышло», «Закон, что паутина: шмель проскочит, муха увязнет», «Законы святы, да законники — лихие супостаты», «Не бойся закона — бойся судьи», «Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы», «Кто законы пишет, тот их и ломает» (см.: [Даль, 1862]).
Русская церковная культура, как сложный симбиоз этнического компонента и православной религиозности, в полной мере воплощает в себе обозначенные противоречия. В своих публикациях, посвященных церковному судопроизводству на примере конкретных исторических событий, мы не единожды демонстрировали мировоззрение и иерархию принципов и установок в российском общественном сознании, когда прописные правовые нормы с легкостью уступали место довольно специфическому правопониманию духовенства и прихожан, постулировавших тем самым примат морали (как ее понимали сами носители) над канонами и церковными законами. Парадоксальность этой ситуации выражалась в том числе и теми неоднозначными с этической точки зрения реверансами в сторону тех или иных обстоятельств или локальной конъюнктуры, указаниями на которые полны архивные источники.
Восточное христианство в своей нормативной части довольно органично вписалось в пространство русской народной культуры. Протоиерей Владислав Цыпин отмечает: «И все-таки правовое начало — это тоже неотъемлемый элемент церковного организма» [Цыпин]. И здесь же: «Взаимные отношения между членами церковного Тела регулируются не только внутренними мотивами людей и нравственными заповедями, но и общеобязательными нормами, нарушение которых влечет за собой применение санкций, именно санкций, хотя и совершенно особого характера, не совпадающих с санкциями, предусматриваемыми государственным правом. Церковному праву тоже присущ характер принудительности, но меры принуждения, применяемые церковной властью, решительно отличаются от тех, которые применяются государственной властью. Церковь не уполномочена своим Основателем принуждать физически, принуждать насилием» [Цыпин]. Иными словами, санкции в свете церковной традиции предстают прежде всего в морально-нравственных (духовных) категориях, определяющих фон всей правовой культуры Русской Церкви вне зависимости от временного континуума.
Но культура не была бы культурой, если бы не обладала изменяемостью во времени. Специалисты в области культурной антропологии видят в этом качестве культуры адаптивный механизм, способствующий приспосабливаемости общества к меняющимся условиям реальности и вырабатывающий специфические формы ответа на происходящие изменения. М. Ю. Зырянов утверждает, что «в зависимости от исторического типа общества: традиционное или современное (общество модерна), выделяется и соответствующий тип правосознания» [Зырянов, 2012, 17]. На этом основании можно утверждать, что хотя приведенные выше этнографические примеры сегодня и не потеряли своего базового психологического значения в коллективном народном сознании, однако все же являются продуктом традиционного, в значительной степени еще аграрного общества и более соответствуют такому типу социумов. Современное же российское общество, а вместе с ним и Церковь, реализуют себя в радикально иных культурных условиях. Урбанизация, информатизация, образование и всеобщая культурно-психологическая вестернизация в последние три десятилетия заметно изменили (и продолжают менять) правопонимание, а вслед за этим и правосознание русского человека в соответствии с требованиями доминирующей городской, а отнюдь не сельской культуры. Эксплицитной особенностью этого процесса является усиление индивидуализма и субъективной самоценности человека, ослабление коллективных связей и, как следствие, повышение частного интереса к формальному праву. В этих обстоятельствах исторически обусловленный правовой патернализм и «нигилизм» начинают постепенно сдавать свои позиции. Если в предыдущие исторические эпохи и периоды русское правосознание, по мысли В. В. Сорокина, было ориентировано на жизнь по совести, а не по правилам, то теперь мы наблюдаем смещение акцента именно в пользу вторых. Таким образом, в современных условиях мы с большей уверенностью можем говорить не о формирующемся церковном правосознании, а о церковных правосознаниях, связанных (впрочем, как и прежде) с конкретным локалите-том — культурно-территориальным пространством, в котором они реализуются.
Тезис 3. Церковное правосознание невозможно объективно идентифицировать без обращения к сущности канонического и церковного права и определения их места в современной жизни Церкви. Следовательно, от понимания и интерпретации указанных категорий зависит ответ на вопрос о том, что есть правосознание в церковном понимании на современном этапе, каковы его специфика и ключевые параметры.
Несмотря на то что данный тезис замыкает цепочку рассуждений по обозначенной проблеме, мы склонны видеть в нем ключевой элемент всего вопроса, объединенный генетическим родством с предыдущими. Здесь кажется вполне справедливым замечание А. В. Золотарева, что «в отличие от науки и философии религия не может органично существовать в качестве подчиненного элемента мировоззрения» [Золотарев, 2011, 9]. В таком случае она либо принципиально утрачивает свое значение, либо, напротив, занимает в мировоззрении центральное место, играя системообразующую и управляющую роль и возводя «свои принципы к сверхъестественному, надмирному, трансцендентному авторитету» [Золотарев, 2011, 9]. Через этот механизм во всей полноте раскрывается сущность православия как религиозной системы.
Важно понимать, что православное христианство есть религия прежде всего онтологическая, а не юридическая. Она ориентирована на служение «в Духе и Истине»; ей сущностно чужд непримиримый и принципиальный норматизм4. Многочисленные примеры в пользу этого мы находим в церковной истории, к примеру — в полемике между православными и католическими богословами Нового времени. Признавая наличие святоотеческого юридизма, мы вынуждены признать, что это отнюдь не юри-дизм Ансельма Кентерберийского. В устах свящ. Павла Флоренского эта мысль звучит наиболее емко: «Суть юридической теории искупления состоит совсем не в мести (человеку) со стороны Бога, а во внутренней правде наказания, признаваемой и преступником, если только в нем есть раскаяние» [Флоренский, 1996, 245].
В одной из публикаций на страницах журнала «Христианское чтение», посвященных принципам права, мы говорили о церковно-правовой антиномичности, формирующей широкую «норму реакции» и исключающей правовую категоричность православной традиции в вопросе применения юридических санкций (см.: [Хохлов, 2024, 165]). Исходя из этого, наблюдается картина внутренней противоречивости церковного права, своей духовной стороной призывающего членов Церкви устремиться к горнему, а материальной — делающей вынужденную уступку обстоятельствам ее земного бытия, со всем его несовершенством и ограничителями. Попытки интеллектуального решения этой дилеммы всегда будут страдать несовершенством, сколь бы ни были они изящны в своей спекулятивности. В. В. Сорокин предлагает в связи с этим следующий принцип: «Собственно юридическая регламентация нужна тем, кто не открыл для себя православной истины и для урегулирования третьестепенных вопросов жизни» [Сорокин]. Однако данная точка зрения не только окончательно капитулирует, склоняя чашу весов в сторону традиционализма с неизбежными в таком случае правовыми издержками, но и натыкается на относительность понятия «третьестепенного». Учитывая тот факт, что социокультурная эволюция нашего общества идет по пути роста субъективного правосознания в его западном понимании, предложенный исследователем выход не может признаваться не только удовлетворительным, но и сколь-либо приемлемым. С нашей точки зрения, принимая во внимание объективные процессы, значение правового регулирования в Русской Церкви, базирующегося именно на писаном законе, будет укреплять свои позиции, в то время как прежде внешне малозначительные явления жизни на новом временном отрезке могут приобретать значение первостепенное и даже архиважное.
Впрочем, и сам В. В. Сорокин понимает слабость озвученной позиции, предлагая идти путем целенаправленного воспитательного изменения направленности правосознания: «критерий правомерности нужно олицетворять не с организованной силой государства, а воспитывать внутри подчиненной праву личности — правосознание; место внешнего авторитета занимает правосознание субъекта права. Чтобы этот критерий „работал“, необходимо... получить в итоге в новом поколении соотечественников когорту активных (совсем не обязательно большинство), православных, нравственных людей (первоначально тех, кто обладает качествами лидеров в различных областях общественной жизни), почитающих традиции своей Родины» [Сорокин]. Не говоря об очевидном субъективизме данной позиции в полном соответствии с современными общественными тенденциями (в чем ее уникальность?), закономерно ставится и другой вопрос: не подменяется ли тем самым правосознание нравственностью5 и не сводится ли окончательно на нет значение церковного законодательства? Как в таком случае быть с церковными институциями, призванными на основе формальных норм и коллективных процедур осуществлять повседневное регулирование жизнедеятельности Церкви во всем ее многообразии и сложности?
Таким образом, поставленная проблема выдвигает на передний план целый перечень вопросов, однозначных ответов на которые пока не имеется. Их актуальность очевидна и практически востребована, а организованная Барсовским обществом дискуссия является наглядным тому подтверждением. Вместе с тем это пока только робкая попытка обозначить наиболее острые углы правовой жизни Церкви на современном этапе, продолжением ее должна стать серия статей и рекомендаций, которые внесут заметный конструктивный вклад в правоприменительную практику церковной повседневности.
* * *
После доклада А. А. Хохлова работа круглого стола продолжилась в формате общей дискуссии. Ниже приводятся лишь отдельные ее положения.
Протоиерей Александр Задорнов: Какие Ваши предложения насчет того, чтобы церковное правосознание как явление все же состоялось? Ведь само понятие правосознания достаточно позднее. Более того, понятие правосознания как богословской категории — это отдельный вопрос. Кроме того, исторический фактор присутствия права в Церкви требует дополнительного изучения.
А. А. Хохлов: Действительно, правосознание — термин не богословский. Он возник достаточно поздно, в XX в., как следствие развития психологической науки. Тем не менее, если в церковной традиции такое понятие не фигурирует, это вовсе не говорит о том, что данное понятие неприложимо к церковной истории и действительности. Ведь церковное право не есть рудимент в современной правовой реальности. Церковь прибегала и прибегает к правовым нормам. Коль скоро есть такая практика, мы не можем говорить, что в Церкви нет правосознания. Однако вопрос в том, насколько оно развито. По мере своего исторического развития Церковь вынуждена была идти по пути создания формального права, чтобы упорядочить церковную жизнь. При этом Церковь как социальный институт идет в потоке общественных процессов.
Священник Владислав Баган: Характерная особенность нашей российской действительности — при первой возможности постараться избежать закона. Поэтому задача церковного законотворчества заключалась в том, чтобы обеспечить реализацию права. Поэтому, по моему мнению, оптимальный подход — государственное участие. Необходимо усиление роли государства в этом процессе. Как это будет сделано, я пока представить не могу. Однако считаю, что сегодня церковное право остро нуждается в этом. У самой же Церкви такого потенциала нет.
А. А. Хохлов: Не могу согласиться с о. Владиславом. Полагаю, на современном этапе такой патернализм неуместен. Высокое правосознание является инструментом обеспечения правовой состоятельности Церкви. И вопрос заключается в том, как нам укрепить это правосознание, учитывая тот факт, что объективные процессы как раз идут в направлении его укрепления.
Протоиерей Георгий Митрофанов: Каноническое право, безусловно, должно существовать, и оно должно знать свою меру. Однако приглашать государство в Церковь крайне опасно. Это профанирует Церковь. Этот опыт не так давно уже исчерпал себя…
Священник Владислав Баган: Тем не менее сегодня государство нам не враг, это надо понимать. Времена меняются, есть позитивный опыт взаимодействия Церкви и государства.
Диакон Николай Тарнакин: В научной литературе мне встречалась точка зрения, что состояние правосознания — как светского, так и церковного — обусловлено объективной действительностью. Соответственно, можно утверждать, что состояние современного церковного правосознания — это последствие советской эпохи. И я хотел бы попросить о. Георгия это прокомментировать.
Протоиерей Георгий Митрофанов: Церковный опыт начала XX в. говорит о том, что церковное право не работало. Не работало так, как призвано было работать. Советское же время отличалось тем, что церковное право не знали, его забыли. Поэтому, с моей точки зрения, в советское время мы были отброшены в этом плане назад.
Я. Б. Жолобов: Что касается юридического сообщества, то относительно проблематики правосознания у нас часто бывают свои, порой горячие дебаты. Для меня эта проблема представляется очень важной. Учитывая тот факт, что понимание данной проблематики неоднозначно, я считаю, что эти вопросы надо поднимать в первую очередь среди ученых-юристов.
А. А. Дорская: Вопрос, который я хотела докладчику задать. Я заметила, что нередко авторы при написании специальных работ переходят с термина «церковное правосознание» на термин «религиозное правосознание». На ваш взгляд, в чем причина такой научной тенденции?
А. А. Хохлов: Налицо попытка субъективировать религиозное сознание как таковое. Есть определенные составные человеческой психики: сознание, самосознание (как его часть) и т. д. В последние годы исследователями предпринималась попытка выявить некую характеристику религиозности, которая бы неразрывно была связана с сознанием. И здесь сформировалось две точки зрения. Первая — религиозность есть эпифеномен культурной эволюции человека, сопутствующий элемент;
другая — что это природное качество. Я хотел избежать этой дилеммы, полагая, что понятие «церковное правосознание» вполне прозрачное и исчерпывающее.
С. О. Шаляпин: «Правосознание» — понятие не вполне устоявшееся, имеющее широкие трактовки. Однако здесь есть опасность рассуждать о правосознании тех, кто не имеет представления о церковном праве. Поэтому пока мы не выясним, о каком круге субъектов идет речь, это будет пустой разговор. И еще. Вы в своем докладе постоянно делали упор на право как на принудительную, наказующую силу. Но право — это прежде всего сила регулятивная. И в Церкви оно нужно для регулирования внутренних процессов. В противном случае возникает перекос.
А. А. Хохлов: Согласен, регуляторная составляющая важна. Однако она не может существовать без санкций. Также, по моему мнению, говоря о субъектах, мы прежде всего должны говорить о епископате — как о носителе особой власти в Церкви.
Священник Владислав Баган: Полностью согласен. В вопросе о субъекте правосознания речь прежде всего должна идти о епископате.
П. И. Гайденко: В целом я согласен с основными положениями доклада. Также подчеркну, что правосознание мы должны рассматривать в рамках конкретных групп. И здесь важно то, что епископат — это не просто носитель правосознания, епископат правосознание воспроизводит. Также наша оценка должна учитывать исторический и территориальный факторы. Более того — в очередной раз хочу это подчеркнуть! — при рассмотрении правосознания, в том числе и церковного, важно не забывать состояние культуры общества.
Священник Никита Кузнецов: Необходимо принимать во внимание мистическую природу Церкви. Настоящее церковное правосознание должно проистекать из того, что таинства для членов Церкви являются не только способом их вхождения в церковную среду, но и способом актуализации собственного духовного статуса. Именно страх потерять его должен быть фактором поддержания высокого уровня правосознания. Также необходимо учитывать правовое положение Церкви в государстве. От этого зависит число людей, правосознание которых мы оцениваем. Оценка должна проистекать из нескольких базовых положений: уважение к церковному праву как таковому и каноническим решениям, которые в установленном порядке принимает церковная власть, учет психологии, правовой идеологии и теорий, а также правоприменительной практики. Также отмечу, что в целом современное церковное правосознание может быть оценено как достаточно невысокое…
С. Ф. Веремеев: Хотелось бы обозначить пару моментов, заслуживающих осмысления. Мы говорим о епископате в контексте состояния и развития правосознания, но нет ли необходимости рассмотреть роль монашества как сдерживающего фактора этого развития? Далее, хотелось бы обсудить, какую роль дореволюционные духовные академии сыграли в развитии правосознания тех лет. Наконец, нет ли, с Вашей точки зрения, преувеличения этнического фактора в оценке проблематики правосознания? В целом же, с моей точки зрения, чем выше будет правосознание в обществе и государстве, тем выше оно будет и в Церкви.
А. А. Хохлов: Я уверен, что монашество, напротив, является оплотом и блюстителем церковного Предания. Поэтому с оценкой его роли как сдерживающего фактора развития церковного правосознания категорически не согласен. Что касается духовных академий, то, конечно же, фактор состояния образования является ключевым в контексте любого правосознания, в том числе и церковного. Правосознание развивается прежде всего посредством знания права. Говоря же об этническом аспекте, необходимо понимать, что определения в данном случае условны. Мы живем в многонациональном государстве и в географически весьма большой стране, в которой локальные и культурные особенности играют значимую роль. Поэтому, повторюсь, корректнее и перспективнее с научной точки зрения говорить не о церковном правосознании, а о церковных правосознаниях .
Т. А. Долгополова: В самом деле, правосознание в целом и церковное правосознание в частности — это необыкновенно интересная тема. Хотелось бы отметить, что на разных исторических этапах правосознание и правовая идеология были разными. С Вашей точки зрения, что сегодня является главным фактором формирования правосознания в Церкви?
А. А . Хохлов: Не могу сказать, что главный, но точно один из наиболее важных — это специфика церковного судопроизводства.
И. А. Мухаметзарипов: Когда мы говорим об индивидуальном или групповом правосознании, необходимо учитывать контекст: в каких обстоятельствах человек принимает решение? К сожалению, зачастую, говоря о правосознании, мы отрываем его от повседневности. Под влиянием различных субъективных факторов нередко человек даже с высоким правосознанием может «понизить» его, пойдя на нарушение норм, для получения каких-то выгод. Также важно учитывать ситуацию, когда человек идет на нарушение норм в случае противоречия между духом и буквой закона. Это особо важно в условиях идущей анонимизации общества, когда отсутствуют коллективы, оказывающие влияние на правосознание. То есть аспект ситуативности и многофакторности, мне кажется, заслуживает сегодня особого внимания.
А. А. Хохлов: Полностью согласен. Но здесь мы неизбежно вступаем на почву юридической психологии. Что еще раз подтверждает тезис о том, что правосознание — чрезвычайно сложная категория.
И. А. Пибаев: Разумеется, верующие люди не оторваны от общества. Правосознание, которое они имели до прихода в Церковь, остается у них и в Церкви. К сожалению, знание собственных правовых основ в самой Церкви остается проблемой, а это неизбежно влияет на уровень правосознания, в особенности в контексте того, что в светском пространстве проводится масса мероприятий по его повышению.
Протоиерей Александр Задорнов: Хотел бы отметить, что мы сегодня много говорили об инструментализме, образовании в аспекте правосознания. Однако инструментализм — это всегда выполнение конкретной задачи. В данном случае — это создание образовательных платформ, без которых никакие школы канонического права невозможны.
Заключение
Таким образом, первое мероприятие Барсовского общества, полностью посвященное проблематике церковного правосознания, позволило сформулировать следующий ряд предварительных выводов.
В наши дни ключевое значение приобретает правосознание епископата — как целокупно, так и его отдельных представителей в частности, — выступающего носителем власти, авторитетом и ориентиром для прочих членов Церкви.
Роль государства в процессе формирования и развития церковного правосознания является предметом длящейся дискуссии.
Также следует говорить не о церковном правосознании, а о церковных правосоз-наниях , связанных с конкретным культурно-территориальным пространством, в котором они реализуются.
При изучении правосознания, в том числе церковного, важно учитывать состояние культуры общества.
Следует признать, что в Церкви прописные правовые нормы с легкостью уступают место довольно специфическому правопониманию духовенства и прихожан, постулировавших тем самым примат морали (как ее понимают сами носители) над канонами и церковными законами.
В церковной традиции санкции предстают прежде всего в морально-нравственных (духовных) категориях, определяющих фон всей правовой культуры Церкви вне зависимости от временного континуума. Однако встает вопрос: не подменяется ли тем самым правосознание нравственностью и не сводится ли окончательно на нет значение церковного законодательства?
Эти и другие поставленные в ходе дискуссии на круглом столе вопросы, несомненно, должны стать и станут предметом научной полемики. Как видится, в перспективе наука церковного права неизбежно будет иметь дело с правосознанием в Церкви, и, хочется надеяться, совместными усилиями удастся удержать под контролем процесс трансформации церковного правосознания, направляя его в конструктивное русло. В противном случае будет формироваться внутренний водораздел, поскольку общество развивается, а Церковь все же отстает. В силу этого однажды проблема может встать столь остро, что игнорировать ее станет уже невозможно.
Список литературы «Наука церковного права неизбежно будет иметь дело с правосознанием в церкви…»: обзор круглого стола Барсовского общества «Церковное правосознание: состояние, проблемы и подходы»
- Мухаметзарипов (2022) — Мухаметзарипов И. А. Религиозные суды, арбитражи и органы медиации в постсекулярную эпоху. Казань: ФЭН, 2022. С. 22.
- Погребная (2011) — Погребная Ю. К. Правосознание современного российского общества (вопросы теории и методологии исследования): автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2011. С. 8.
- Пырков (2012) — Пырков О. А. Соотношение религии и правового сознания // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Н. Новгород, 2012. С. 38–42.
- Бочаров (2012) — Бочаров В. В. Неписаный закон: Антропология права. Научное исследование: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РХГА, 2012. С. 43.
- Волужков (2024) — Волужков Д. В. Конференция «Проблемы преподавания церковного права в церковных и светских вузах», посвященная 5‑летию Барсовского общества // Христианское чтение. 2024. № 1. С. 104–110.
- Гайденко, Волужков (2024) — Гайденко П. И., Волужков Д. В. «Предстоит большая и кропотливая работа…»: О научно-издательском проекте Барсовского общества «Источники и памятники канонического и церковного права Русской Церкви» // Христианское чтение. 2024. № 3. С. 165–174.
- Задорнов и др. (2024) — Задорнов А., прот., Волужков Д. В., Гайденко П. И., Митрофанов А. Ю., Хохлов А. А. О церковном законе, Божественном праве и принципе законности. Материалы круглого стола Барсовского общества 29 сентября 2023 года // Христианское чтение. 2024. № 1. С. 78–97.
- Золотарев (2011) — Золотарев А. В. Взаимодействие религиозного и правового сознания: автореф. дис. … канд. филос. наук. Брянск, 2011.
- Зырянов (2012) — Зырянов М. Ю. Правосознание в условиях современного российского общества (социально-философский аспект): автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2012.
- Оспенников (2023) — Оспенников Ю. В. Актуальные проблемы изучения церковного права (промежуточные итоги работы Барсовского общества) // Христианское чтение. 2023. № 1. С. 180–198.
- Солоневич (2002) — Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2002.
- Сорокин — Сорокин В. В. Право и православие. URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravo-i-pravoslavie/#note213 (дата обращения: 09.09.2024).
- Тихомиров (1905) — Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1905.
- Даль (1862) — Даль В. Пословицы и поговорки русского народа: Сб. пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. М.: Имп. Об-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1862. 1096 с.
- Цыпин (1996) — Цыпин В., прот. Церковное право. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/tserkovnoe-pravo/1 (дата обращения: 09.09.2024).
- Флоренский (1996) — Флоренский П., свящ. Отзыв о сочинении А. Туберовского «Воскресение Христово» // Флоренский П., свящ. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2.
- Хохлов (2024) — Хохлов А. А. Принцип законности в церковном праве: к постановке проблемы // Христианское чтение. 2024. № 2. С. 162–169.