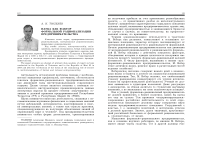Наука как фактор формальной рационализации предпринимательства
Автор: Тюленев Александр Иванович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 2 (87), 2014 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка первичного анализа данных экспертных опросов, проведенных в Республике Татарстан и Республике Марий Эл в 2009 и 2013 гг., для верификации тезиса о стимулирующей роли науки в институционализации формально-рационального предпринимательства.
Наука, предпринимательство, рационализация, материальная рационализация, формальная рационализация
Короткий адрес: https://sciup.org/147221702
IDR: 147221702
Текст научной статьи Наука как фактор формальной рационализации предпринимательства
Предпринята попытка первичного анализа дан ных экспертных опросов, проведенных в Республике Татарстан и Республике Марий Эл в 2009 и 2013 гг., для верификации тезиса о стимулирующей роли науки в институционализации формально-рационального предпри нимательства.
The paper presents an attempt of primary data analysis of expert surveys conducted in the Republic of Tatarstan and in the Republic of Mari El in 2009 and 2013 for verification of the thesis of the stimulating role of science in institutionalization of formal and rational entrepreneurship.
Актуальность исследуемой проблемы связана с необходимостью выявления предпосылок, источников, обстоятельств генезиса формально-рационального предпринимательства как движущей силы институционализации современного социума. Целью статьи является попытка с помощью социологического инструментария проанализировать данные экспертных опросов на предмет степени «онаучивания» сознания и деловой практики предпринимателей Республики Татарстан (РТ) и Республики Марий Эл (РМЭ).
Наука понимается нами как деятельность, связанная с систематическим изучением физических и социальных явлений путем наблюдений, экспериментов, классификации и поиска универсальных законов, а также как отрасль практики, специализирующаяся на получении объективных знаний об окружающем мире и человеке1. Под предпринимательством понимается особая форма деятельности, ориентированная
ТЮЛЕНЕВ Александр Иванович, доцент кафедры социальных наук и технологий Поволжского государственного технологического университета, кандидат социологических наук (г. Йошкар-Ола).
на получение прибыли за счет применения разнообразных средств — от примитивного разбоя до интеллектуального бизнеса2; имманентная характеристика социального поведения деловых людей, называемая предприимчивостью; группа лиц, обладающих предприимчивостью и занимающихся бизнесом от случая к случаю, по совместительству, на профессиональной основе, по призванию.
Термин «рационализация» используется в трактовке М. Вебера как разумное, осмысленное и осознанное социальное поведение, характер которого эволюционирует от материальной рациональности к рациональности формальной. Начало рационализации предпринимательства как движения от материальной рациональности к рациональности формальной М. Вебер связывал с действием комплекса факторов, объединение которых в единую целостность послужило импульсом процессу генезиса формально-рациональной деловой активности. К числу факторов, вызвавших к жизни «дух» формально-рационального предпринимательства, М. Вебер отнес античную науку, римское право и рачительный способ ведения хозяйства4.
Веберовское наследие содержит немало идей о взаимосвязи науки и бизнеса в аспекте их взаимообусловливающей рационализации. Так, М. Вебер полагал, что свойственный ученому рационализм концентрирует его усилия исключительно на профессиональной деятельности. Ученый не должен заниматься в аудитории политикой. Даже рассуждая о демократии, он обязан делиться со студентами научными знаниями, а не навязывать им свою политическую позицию5.
Как и ученый, формально-рациональный предприниматель не должен привносить в бизнес политику, каких бы выгод это ему не сулило. Тем временем «модернизирующаяся» современная российская действительность со всей определенностью навязывает деловому миру совершенно иную модель предпринимательского поведения. Сотрудничай с властью, т. е. занимайся политикой, и достигнешь успехов в деловой практике. Значит, далек типичный, преуспевающий российский бизнесмен от формальной рациональности, а, следовательно, от науки.
Мышление формально-рационального предпринимателя, как и сознание научного работника, по мнению М. Вебера, имеют явные черты сходства. Тот и другой должны счи- таться с элементами непредсказуемости и риска, имманентно присущими их профессиональной деятельности. У М. Вебера это связано с «вдохновением»; от того, придет оно или нет, зависит успешность научных поисков. У коммерсанта или крупного промышленника — с «коммерческой фантазией», гениальной выдумкой, без которой он обречен на роль приказчика или технического чиновника, неспособного произвести организационные нововведения6.
Наметив канву исследования взаимосвязи развития науки и формальной рационализации предпринимательства, М. Вебер передал эстафету своим последователям. Одним из них был Р. К. Мертон, который в своих работах основной акцент сделал на анализе процессов взаимосвязанного развития науки, техники, религии и общества. В 1938 г. вышла его книга «Наука, техника и общество в Англии XVII в.», в которой социолог предложил тезис, вошедший в историю науки как «тезис Мертона», или «тезис Вебера-Мертона». По его мнению, основной причиной усилившегося в Англии XVII в. интереса к естественным наукам стало распространение в английском обществе пуританизма. Этика этого религиозного учения стимулировала научную деятельность, формируя отвечающий духу капитализма этос науки. Научная мораль Нового времени базировалась на принципах универсализма, коммунализма, бескорыстности и скептицизма7.
Развивая идеи М. Вебера о взаимосвязи между протестантской этикой и формальной рационализацией предпринимательства протестантов, Р. К. Мертон пришел к выводу, что подобная взаимозависимость существует также между этикой протестантского вероучения и развитием науки, агентами которой в условиях раннего капитализма становились приверженцы протестантизма. Подробно изучив исторические источники, С. Мертон подсчитал, что 62 % членов первоначального состава Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе являлись пуританами, несмотря на то, что представители этой конфессии не были большинством населения Англии 1660-х гг.8
Таким образом, остается лишь прочертить линию между наукой и формальной рационализацией бизнеса, чтобы получить прочный и устойчивый треугольник взаимодействующих факторов «протестантская этика — наука — формальнорациональное предпринимательство».
Между тем данные экспертных опросов, проведенных нами в 2009 и 2013 гг. в РТ и РМЭ показывают, что не всем экспертам наличие взаимосвязей между развитием названных феноменов представляется очевидным, если речь идет о современной России. В обоих случаях участниками опросов стали наиболее успешные специалисты в области предпринимательства, отобранные методом «снежного кома», по 50 чел. от каждой республики.
Согласно результатам опросов 2009 г., большинство экспертов в РТ (65,8 %) и РМЭ (58,0 %) на момент их проведения расценивали качество российского высшего образования, имеющего непосредственное отношение к науке, научной деятельности и научному этосу, как «среднее», а 12,5 % респондентов из РТ и 10,0 % респондентов из РМЭ — как «высокое». При этом абсолютное большинство участников опроса в РТ (53,5 %) и относительное большинство в РМЭ (40 %) высказали мнение, что в ближайшем будущем (до 2015 г.) качество высшего образования останется прежним.
Перспективы развития высшего образования и науки в ближайшем будущем (до 2015 г.) оценивались большинством экспертов как «удовлетворительные»: в РТ — 45,0 %, РМЭ — 60,0 %. Более отдаленное будущее развития науки и высшего образования (до 2020 г.) представлялось участникам опроса несколько благоприятнее. По крайней мере, «удовлетворительные» оценки составили в РТ 42,5 %, в РМЭ — 42,0 %.
В значительно большей степени нас интересовало, что думают эксперты по поводу факторов, способствующих развитию науки и высшего образования под углом зрения дальнейшей формальной рационализации научно-образовательной сферы и соответствующего воздействия на предпринимательство и бизнес. По мнению западных исследователей, формальная рационализация образования и науки ведет к повышению качества образовательных услуг и формирует целерациональный тип ученого. И то и другое в итоге благотворно влияет на процесс формальной рационализации предпринимательства. И не только потому, что многие будущие бизнесмены проходят школу университетов и колледжей, попадая на достаточно продолжительный срок в орбиту влияния склонных к формально-рациональной деятельности ученых и преподавателей, но и потому, что современный бизнес весьма затруднителен, если не связан с наукой и не использует научно-технические достижения. Сошлемся хотя бы на мнение В. Зомбарта, утверждавшего, что германский бизнес рубежа XIX—XX вв. «обязан своей победоносностью» «научному обоснованию и проникновению в сущность производственных процессов»9.
Что касается рационального типа ученого, способного оказать формально-рационализирующее влияние на предпринимательство, то сошлемся на А. Г. Маслоу, сконструировавшего «идеальный тип» научного работника, с ярко выраженными формально-рациональными личностными характеристиками10.
Возвращаясь к проблеме факторов развития высшего образования и науки, формальная рационализация которых придает логическую осмысленность и строгую калькулиру-емость бизнесу, обратим внимание на то, что очень немногие эксперты связывают дальнейший прогресс научно-образовательной сферы с расширением сети частных школ, вузов и научно-исследовательских центров (7,5 % в РТ и 18,0 % в РМЭ). Большинство респондентов по сложившейся в советские времена традиции апеллируют к государству, полагая, что важнейшими факторами развития высшей школы и науки должны стать увеличение финансирования государственных школ, вузов и НИИ (62,5 % в РТ и 52,0 % в РМЭ), а также рост оплаты труда преподавателей и научных работников (70,0 и 48,0 % соответственно). При этом чуть менее половины татарстанских экспертов (47,5 %) и немногим более половины экспертов из Марий Эл (56,0 %) считают, что дальнейшему развитию российского высшего образования и науки будет способствовать расширение связей с зарубежными научно-образовательными учреждениями.
Причины таких суждений малопонятны, поскольку выгоды расширения и углубления сотрудничества в основном государственной системы образования и науки с системой смешанной, где существует примерный паритет государственного и частного секторов, далеко не очевидны, что и показывает современная российская практика.
Заметим также, что лишь небольшое число экспертов (15,0 % в РТ и 12,0 % в РМЭ) усматривает перспективы развития высшего образования и науки в увеличении платы за обучение. Между тем опыт западных стран показывает, что высокая стоимость образования в университетах и колледжах выступает важнейшим источником финансирования образовательно-научных учреждений, обеспечивая хорошее качество образовательных услуг и достойную оплату труда тех, кто эти услуги предоставляет.
Своего рода квинтэссенцией блока вопросов стал вопрос о перспективах интериоризации российским обществом, в том числе и представителями деловых кругов, ценностей, образующих этос науки (в мертоновском понимании). При ответе на этот вопрос мнения экспертов из РТ и РМЭ практически совпали. Только 12,5 % экспертов РТ оптимистично оценили перспективу утверждения в общественном сознании в обозримом будущем ценностей научного этоса, тогда как подавляющее большинство специалистов по бизнесу проявило пессимизм, заявив, что такого, скорее всего, не случится (72,5 %). Среди экспертов РМЭ оптимистов оказалось 14,0 %, а пессимистов 68,0 %.
Повторные опросы экспертов по предпринимательству, проведенные в 2013 г., преследовали несколько иные цели: получение достоверной информации о более конкретных аспектах взаимосвязи научно-образовательной сферы с формальной рационализацией предпринимательской деятельности. Первым таким аспектом стала корреляция между уровнем образования и успешностью бизнеса, достаточно очевидно проявившая себя на Западе, особенно на этапе позднего модерна, что и подметил В. Зомбарт. Оценивая нынешние реалии своей республики, более половины татарстанских экспертов (56,0 %) выбрали вариант ответа «уровень образования не влияет на успешность предпринимательской деятельности». Около четверти экспертов (24,0 %) заявили, что для успеха в бизнесе необходимо высшее образование. Пятая часть опрошенных (20,0 %) затруднилась с ответом на этот вопрос. Мнения экспертов из РМЭ распределились следующим образом: 40,0 % — «между уровнем образования и успехом в бизнесе определенной связи не существует», 8,0 % — «для успеха в бизнесе необходимо среднее образование», 12,0 % — «среднее специальное», 40,0 % — «высшее».
Большинство экспертов, склонившихся к мнению, что уровень образования не влияет на успешность предпринимательской деятельности, вызывает желание высказать некоторые предположения, которые, вероятно, могут быть восприняты неоднозначно. Первое предположение состоит в том, что степень зрелости общества modernity, где формально-рациональное предпринимательство, прежде всего частное, играет ведущую роль, в современной России невысока. Второе соображение основано на оценках экспертов и собственных наблюдениях автора. По-видимому, социальная реальность в обеих республиках действительно не дает оснований для утверждений, что высокий уровень образования является залогом предпринимательского успеха. Ведущую роль в успешности предпринимательства играют неформальные связи и близость к властным структурам. И, наконец, третье суждение касается качества высшего образования и образования вообще, которое эксперты в большинстве своем оценили как «среднее». Очень может быть, что «средний» уровень образования не дает возможности предпринимателям понять и использовать формально-рационализирующую роль науки в развитии своего бизнеса.
Обоснованность последнего предположения в известной мере оказалась подтвержденной ответами экспертов на вопрос, касающийся влияния занятия наукой на развитие предпринимательских способностей. Среди экспертов из РТ, ответивших на этот вопрос отрицательно, оказалось 44,0 % (20,0 % — «не влияет», 24,0 % — «скорее не влияет, чем влияет»), экспертов из РМЭ — 44,0 % (8,0 % — «не влияет» и 36,0 % — «скорее не влияет, чем влияет»). Примерно такое же число экспертов с обеих республик все же признали факт позитивного воздействия занятия наукой на развитие предпринимательских способностей.
Еще один аспект проблемы взаимосвязи формальной рационализации науки и предпринимательства нашел отражение в постановке прямого вопроса, способствует ли этос науки (универсализм, коммунализм, бескорыстность, скептицизм) на рационализацию предпринимательской деятельности? Ответы татарстанских экспертов вызвали удивление, поскольку только 28,0 % опрошенных признали факт позитивного влияния научного этоса на рационализацию деловой активности. Две пятых участников опроса (40,0 %) усомнились в существовании такого влияния. Почти треть специалистов по бизнесу (32,0 %) затруднились с ответом на этот вопрос. В отличие от них эксперты из РМЭ на вопрос о благотворном влиянии научного этоса на рационализацию предпринимательства ответили так, как и ожидалось. Более половины из них (52,0 %) дали утвердительный ответ, две пятых (40,0 %) — отрицательный.
Так или иначе, когда вопрос о взаимосвязи этоса науки и рационализации предпринимательства был переведен в конкретную плоскость, ответы экспертов из РТ и РМЭ оказались во многом сходными. Экспертов спросили, в какой мере научный этос проник в сознание предпринимателей Вашей республики? Ответы оказались следующими. РТ: «в полной мере» (4,0 %), «частично» (8,0 %), «в незначительной степени» (20,0 %), «в очень небольшой мере» (16,0 %), «не проник вовсе» (20,0 %), «затрудняюсь ответить» (32,0 %). РМЭ: «в полной мере» (0,0 %), «частично» (16,0 %), «в незначительной степени» (40,0 %), «в очень небольшой мере» (20,0 %), «не проник вовсе» (16,0 %), «затрудняюсь ответить» (4,0 %). Сходство проявилось прежде всего в том, что лишь незначительная часть экспертов из обеих республик констатировала факт проникновения научного этоса «в полной мере» или «частично» в предпринимательскую среду. Такое положение вещей не дает достаточного основания для утверждений о высокой степени формальной рационализации бизнеса, связанной с интериоризацией этических норм и ценностей науки.
Таким образом, проблема взаимосвязи формальной рационализации науки и бизнеса является актуальной, поскольку в России набирает обороты процесс развития капитализма и предпринимательства. Важно, чтобы факторы, способствующие формальной рационализации бизнеса, были выявлены и осмыслены, а результаты исследований нашли применение в практике управления институционализацией формально-рационального предпринимательства. Предпосылкой и условием становления такого бизнеса может стать изучение западного опыта формальной рационализации предпринимательства, а также исследований причин и факторов, вызывающих к жизни и детерминирующих этот процесс. Некоторые аспекты, связанные с изучением воздействия науки на формальную рационализацию бизнеса, рассмотрена в настоящей статье.
Список литературы Наука как фактор формальной рационализации предпринимательства
- Наука//Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1. М.: Вече, ACT, 1999. С. 455.
- Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека. URL: http://www.booksite.ru/localtxt/zom/bart/text.pdf (дата обращения: 14.02.2014).
- Предпринимать//Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1990. Т. 3. С. 388.
- Гайденко П.П. Социология Макса Вебера//М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 24.
- Вебер М. Наука как призвание и профессия//Там же. С. 721-722.
- Там же. С. 710.
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/пер. с англ. М.: Academia, 1999. С. 510-511.
- Гатина M.Р, Михель Д.В. Ранняя история Лондонского королевского общества глазами современных историков науки // Диалог со временем. 2011. № 34. С. 191-205.
- Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека..
- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. С. 47.