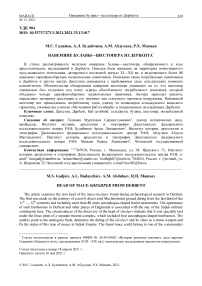Навершие булавы-шестопера из Дербента
Автор: Гаджиев М.С., Будайчиев А.Л., Абдулаев А.М., Мамаев Р.Х.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается железное навершие булавы-шестопера, обнаруженного в ходеархеологических исследований в Дербенте. Находка была выявлена на территории новооткрытого мусульманского могильника, датируемого последней третью XI-XII вв. и включающего более 80 каменных саркофагообразных надмогильных памятников. Появление таких погребальных памятников в Дербенте и других местах Дагестана связывается с пребыванием здесь сельджукских воинских контингентов. Обстоятельства обнаружения навершия шестопера указывают на то, что шестопер специально был подложен под плиту ограды обособленного погребального комплекса, который объединял четыре саркофагообразных надмогильных памятника. Авторы приводят аналоги, определяют датировку шестопера и его значение как статусного предмета вооружения. Найденный шестопер мог принадлежать погребенному здесь одному из командиров сельджукского воинского гарнизона, упомянутых в списке «Мучеников Баб ал-абваба» и похороненных на кладбищах Дербента.
Дагестан, дербент, баб ал-абваб, сельджуки, булава, шестопер, погребальный комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14123578
IDR: 14123578 | УДК: 904
Текст научной статьи Навершие булавы-шестопера из Дербента
МАИАСП № 13. 2021
ЮЗЗ в соответствии с мусульманской нормой ориентировки погребальных памятников. Нахождение данных массивных надмогильных памятников in situ указывает на нахождение под ними погребений, имеющих такое же широтное направление. Собственно расположенные под ними погребения не вскрывались в соответствии с разрешительным документом и по просьбе мусульманского духовенства города, но, судя по нашим наблюдениям, захоронения под выявленными надмогильными памятниками представляют погребения в ящиках-цистах, сложенных из крупных, хорошо обработанных каменных плит (2—4 продольных и 2 поперечных).
Большинство саркофагов были сконцентрированы в несколько обособленных территориальных групп, в том числе выделенных каменными оградками и, возможно, представляющими фамильные (родовые) или социально статусные участки.
Обособленная группа № 1 представляла огороженный вертикально поставленными, хорошо обработанными крупными плитами прямоугольный участок с внутренними размерами около 4,7 × 8,3 м, ориентированный длинной осью по линии СВВ—ЮЗЗ (рис. 3). В площади участка были обнаружены и зачищены четыре саркофагообразных надмогильных камня (саркофаги № 1—4), имеющих ту же ориентировку СВВ—ЮЗЗ (рис. 4, 5). Они представляют различные типы крупных саркофагов длиной 200—215 см, общей (с учетом ширина полы) шириной 65—74 см, общей (с учетом толщины полы) высотой 49—55 см. Три саркофага имеют дополнительные религиозно-декоративные детали, расположенные на верху корпуса у его обоих концов (рис. 6): у саркофага № 1 (рис. 7) — это углубленная сплошная (нелинейная) равносторонняя восьмиконечная звезда «в изголовье» и подквадратное углубление «в ногах»; у саркофага № 2 (рис. 8) — аналогичные две звезды у обоих концов; у саркофага № 3 (рис. 9) — по два парных углубленных сплошных прямоугольника на концах корпуса, а также врезное условное изображение мечети (?) на западной торцевой стороне корпуса. Еще один саркофаг (№ 4) имеет обычную сильно сжатую стрельчатую, почти полуцилиндрическую форму.
Наконец, в западной половине этого огороженного участка in situ располагались две массивные каменные прямоугольные плиты с пазами (рис. 3—5), плотно прилегающие друг к другу и образующие своеобразную платформу-постамент с «нишей» в центре — вырезанные пазы на их обращенных друг к другу продольных сторонах образовывали «просвет» прямоугольной формы. Очевидно, что некогда на этой возвышенной платформе был установлен еще один саркофаг, который до нас не дошел.
В ходе зачистки восточной стенки ограды непосредственно под подошвой угловой плиты с внутренней стороны на уровне, соответствующем подошве близ расположенных саркофагов № 1, 2 и близком к древней дневной поверхности, было найдено лежавшее in situ железное навершие шестопера (рис. 10). Оно покоилось чуть наклонно, было обращено отверстием втулки наружу, а верхом — под плиту. Обстоятельства нахождения и местоположение, отсутствие деформации данного участка стенки оградки и смещения плиты, под которой было найдено навершие, положение находки свидетельствуют о том, что шестопер специально был подложен под плиту, а не случайно утерян и т.п. Обращает внимание также то, что навершие было подложено под плиту, очевидно, без древка-рукояти — никаких остатков дерева (пропитанного окислами железа или в виде трухи, как это обычно наблюдается) внутри железной втулки обнаружено не было.
М.С. Гаджиев, А.Л. Будайчиев, А.М. Абдулаев, Р.Х. Мамаев
МАИАСП № 13. 2021
Описание находки, аналоги
Железное навершие шестопера (рис. 11, 12) имеет тулово-втулку цилиндрической формы на протяжении большей части своей длины, и только выше верхнего края лопастей-перьев навершие переходит в колоколовидную форму и увенчано небольшой шишечкой. Шесть узких высоких (длиной около 60 мм, шириной в основании до 8 мм и высотой по центру до 14 мм), равномерно размещенных вертикальных лопастей, имеющих полуовальную форму, расположены под небольшим углом, почти радиально относительно центральной оси палицы. Общая высота навершия — 12,0 см, ширина боевой части — 5,6 см, диаметр втулки внешний — 2,9 см, диаметр втулки внутренний — 2,3 см, глубина конической формы втулки — 5,8 см. Отверстие на втулке для устойчивого закрепления рукояти с помощью штифта/гвоздя отсутствует. Нижняя кромка втулки частично обломана. Края заостренных лопастей повреждены коррозией, одна из лопастей имеет небольшой облом; край еще одной лопасти слегка согнут, что, вероятно, свидетельствует об использовании предмета по назначению.
Как известно, шестоперы в средневековье получили достаточно широкое распространение в Евразии; им и в целом характеристике различных типов ударно-дробящего оружия (палиц, булав, перначей и т.д.) посвящена довольно обширная литература отечественных и зарубежных исследователей. На Северном Кавказе известно уже более десятка находок наверший шестоперов и типологически близких им перначей (см., напр.: Чахкиев 1986: 8; 2019: 96—98; Нарожный, Чахкиев 2003: 127, 129—130, 145, рис. 3; Горелик 2017: 279, 288, рис. 6: 19 ; Дружинина 2017: 96—104; Дружинина, Чхаидзе 2013: 74—81; 2020: 212—225), что может указывать на их относительную распространенность в регионе в средневековый период.
Точной аналогии шестоперу из Дербента мы не обнаружили, но типологически близкие ему (по форме и деталям корпуса, форме лопастей-перьев) представлены как среди находок на территории Кавказа (Грузия, Северный Кавказ), так и за его пределами (Балканы, Русь). При этом, как представляется, наиболее важной деталью при сравнительно-типологическом анализе наконечников шестоперов выступают форма и параметры корпуса и лопастей (в нашем случае овальная). Наиболее близким представляется шестопер из Стара Загоры (Болгария), который имеет относительно длинную втулку, колоколовидный верх с шишечкой-кнопкой и, что особенно важно, невысокие овальной формы лопасти (Nicolle 1988: 8, fig. K; D’Amato 2011: 29, fig. 20; Bakradze 2016: 207—210, fig. 2, 3; Tsurtsumia 2018: 99, fig. 1: 3, 4 )1. Ему почти идентичен шестопер из Грузии, отличающийся прямоугольной формой лопастей (Bakradze 2016: 207—208, fig 1; Tsurtsumia 2018: 99, fig. 1: 1 ). Старозагорскому и дербентскому экземплярам очень близок другой шестопер с Балкан, который отличается тем, что верх навершия представляет заостренный конус наподобие шишака (D’Amato 2011: 42—43, fig. 28: 3 ; Bakradze 2016: 210—211, fig. 4; Tsurtsumia 2018: 99, fig. 1: 4 ). Близок по форме шестопер из раскопок Пронского городища (Рязанская область), который тоже имеет колоколовидное навершие с шишечкой, но отличается тем, что у него подтреугольной формы лопасти и изготовлен он из бронзы (Монгайт 1961: 208—210, рис. 89: 7 ; Кирпичников, Медведев 1985: 341, табл. 129: 12 ).
Из кавказских аналогов укажем на шестопер из святилища Реком (Северная Осетия), который имеет подобной формы ударные лопасти, но у него отсутствует колоколовидное
МАИАСП Навершие булавы—шестопера из Дербента 623 № 13. 2021
навершие (Дружинина, Чхаидзе 2013: 77—79, рис. 2), а также — на экземпляр из Ангелинского Ерика (Кубань) с колоколовидным навершием с шишечкой и плохо сохранившимися, вероятно, овальными лопастями (Волков, 2005: 351, 376, рис. 6: 1 ; Горелик 2008: рис. 6: 19 ).
В ряду изобразительных источников, к которым обращаются исследователи при изучении булав, перначей, укажем на фреску позднего XIV в. в монастыре Дискури в Милопотамосе (Крит) с изображением трех конных святых воинов-великомучеников, у одного из которых (св. Димитрий) изображен шестопер с навершием, близким дербентскому и ему подобным образцам (D’Amato 2011: 9, 22, fig. 2).
Датировка
Упомянутые выше шестоперы и подобные им образцы исследователи датируют в диапазоне XIII—XV вв., уже — XIV—XV вв. и связывают их появление на Балканах, Кавказе, в Западной и Восточной Европе с византийским, золотоордынским, хулагуидским, иранским влиянием (см. упомянутые и др. публикации). Так, например, Д. Николл полагает, что европейские булавы-перначи и шестоперы (the flanged maces, the winged maces) имели прототипом византийские или исламские (созданные в Иране) образцы (Nicolle 1999: 222). P. Д’Амато, вслед за Д. Николлом, также связывал появление их в XIII в. сначала в Восточной Европе, а затем в Западной Европе с восточным влиянием — византийским или исламским (иранским) (D’Amato 2011: 29).
Дербентская находка позволяет несколько иначе взглянуть на вопрос путей и времени появления шестоперов на Кавказе. P. Д’Амато (D’Amato 2011: 27) обратил внимание на описание наверший булав (араб. ̒amūd, dabbūs), изготовленных для султана Салах ад-дина (1138—1193), которое приводит Мурда (Марди) ибн Али ат-Тарcуси (XII в.) в своей Табсира (полное название: Табсират арбаби ал-альбаб фи кайфийати ан-наджат фи ал-хуруб мин ал-асва — «Разъяснение обладателям разума способа избежания неприятностей в сражениях»), написанной около 1187 г.: он кроме собственно булавы со сферическим навершием и железными коваными шипами, называет и пернач, имеющий, по его описанию, форму огурца с саблевидными отростками—лопастями (al-Tarsusi 1847—1948: 139; см. также: al-Tarsusi 1968). Это свидетельство допускает датировку шестоперов XII в., возможно, даже концом XI веком, т.е. сельджукским периодом.
Описанные выше обстоятельства и археологический контекст обнаружения шестопера в Дербенте позволяет относительно синхронизировать эту находку с погребальным комплексом, на территории которого она была обнаружена.
Представленные саркогофагообразные надмогильные памятники, получившие распространение в южной части Дагестана — в Дербенте и его округе, в исторических областях Табасаран, Хайдак (Кайтаг) и Лакз — датируются последней третью XI—XII вв., связываются с военно-религиозной экспансией сельджуков на Восточном Кавказе и фиксируют места размещения сельджукских военных гарнизонов (Гаджиев 2018: 10—22). Хронологическим репером, помимо косвенных оснований (арабские куфические надписи, выполненные почерком куфи, в т.ч. цветущим куфи, и иные доводы), для датировки этих памятников служит эпитафия на аналогичном надмогильном камне, установленном, как гласит куфическая надпись на нем, на могиле Махмуда б. Аби-л-Хасана, «сына убитого за веру» в 469 г.х. / 1076—1077 г. (Лавров 1966: 61, 266, табл. II: 10—10г ; Шихсаидов 1984: 15—20). Этот камень вместе с несколькими подобными установлен на южном кладбище Дербента, на участке, издавна известном у местного населения под названием Джум-джум
М.С. Гаджиев, А.Л. Будайчиев, А.М. Абдулаев, Р.Х. Мамаев
МАИАСП № 13. 2021
(имя могущественного мифического царя), с которым связываются легендарные известия, записанные еще Адамом Олеарием (Олеарий 1906: 413—414).
Ранее в Дербенте насчитывались сотни, если не тысячи, подобных саркогофагообразных надмогильных памятников. Они изображены на известной гравюре 1638 г. с видом Дербента Адама Олеария (рис. 1), побывавшего в городе и записавшего в своем дневнике: «По сю сторону Дербента мы застали чрезвычайно много надгробных и могильных плит; их было несколько тысяч штук; они были длиною более человеческого роста, закруглены вроде полуцилиндра и выдолблены, так что можно было лежать в них; на них были высечены арабские и сирийские письмена. Об этих могилах жители рассказывали следующую историю. Жил будто бы в древние времена, однако уже после Магомета, в Индии царь по имени Кассан, по происхождению из нации “окус”, живущей за Эльбурсом в Табессеране, где теперь много живет иудеев. У него была ожесточенная битва с дагестанскими татарами, которых они зовут лезги, в этом самом месте. Он победил их, убив несколько тысяч человек; могилы наиболее знаменитых из убитых он велел выложить могильными плитами такого рода и такой формы, как показано на прилагаемом рисунке. Среди других мест погребения еще особое, окруженное стеной, находилось в сторону моря. Здесь лежали рядом сорок подобных длинных огромных надгробных плит и были водружены многие флаги. Персы называют это место погребения джалтенан, а турки и татары — керхлер. Здесь, как говорят, погребены 40 князей, святых мужей, погибших в той же битве; персы и татары ежедневно приходят сюда молиться» (Олеарий 1906: 414). Позднее эти сведения повторил Ян Стрейс (Стрейс 1935: 236), посетивший Дербент в 1671 г.
На почитаемой мусульманской святыне Дербента — кладбище Кырхляр (в пер. с тюрк.: «Сороковник»; перс . Чэхэл танан ) — за северной городской оборонительной стеной, недалеко от ворот Кырхляр-капы (в пер. с тюрк. «Ворота сорока [мучеников]»; араб. Баб ал-джихад — «Ворота священной войны»), расположено 43 саркогофагообразных памятника (длиной 1,80—3,25 м, ширина 0,5—1,0 м, высота 0,5—0,9 м), на некоторых из них ранее были видимы ныне полностью стершиеся арабские тексты в стиле цветущего куфи (Шихсаидов 1984: 124—127; Аликберов 2014: 370—391). Имена погребенных на этом и других (!) кладбищах Дербента фигурируют в числе 50 мучеников Дербента в петербургском списке «Дербенд-наме» в приложении, озаглавленном Баб ал-абваб Шухедалери — «Мученики ( шахид ы) Баб ал-абваба» (Derbend-Nameh 1851: 152—154). А.Р. Шихсаидов обратил внимание на то обстоятельство, что почти все поименно названные мученики- шахид ы (47 из 50) носят тюркский титул султан , а многие из перечисленных — тюркские имена (Чумчех, Туфан, Гут-хан, Геййум, Хечем, Хар-кеш, Кутчек, Деде и др.), и связал появление этого титула и сам некрополь с сельджуками (Шихсаидов 1969: 146—148; 1984: 126—127, 387—388). А.К. Аликберов поддержал это мнение и интерпретировал кладбище Кырхляр как место погребения «предводителей отрядов газиев , иначе говоря, местных сар-лашкар ов, которых в сельджукскую эпоху почетно титуловали султан ами» — как известно в последней трети XI в. при сельджукских наместниках Йагме и Сау-Тегине, Дербент стал военно-политическим аванпостом Сельджукской империи на Кавказе (Аликберов 2003: 484; 2014: 385—386)2. Недавно М.С. Гаджиев развил это мнение (Гаджиев 2018: 10—22).
МАИАСП № 13. 2021
Приведенные данные позволяют отнести выявленный могильник, представляющий собой участок обширного средневекового мусульманского некрополя Дербента, к последней трети XI—XII вв. — ко времени господства сельджуков в Дербенте и на Восточном Кавказе. Учитывая сообщения Себастаци (XIII в.) о нахождении в Дербенте «войска турок» во время вторжения монгол под предводительством Джебэ и Субудая в 1220 г. (Армянские источники 1962: 23) и анонимной персидской хроники «Чудеса мира» ( Аджаиб ад-дунйа ) о нахождении в это время укреплений Дербента в руках мусульман и турок, верхнюю дату саркогофагообразных памятников можно поднять до первой трети XIII в. Соответственно этой дате, в пределах последней трети XI — первой трети XIII в., а если узко, то XII веком, следует датировать и обнаруженное навершие шестопера, которое предстает на сегодня самым ранним экземпляром этого вида боевого оружия на Кавказе.
Не исключено, что появление шестопера, как особого вида ударного оружия, связано с сельджукской военной организацией3, с развитием военного дела и вооружения в государстве Сельджуков. Но учитывая то, что турецкое название шестопера (şeşper) происходит из персидского (šešpar, gorz-e šešpar — «палица/булава с шестью перьями/крыльями»), можно предполагать иранское происхождение этого вида оружия4, принимая во внимание также то, что армия Сельджуков состояла не только из легко вооруженной огузской конницы: знаменитый визирь великих Сельджуков Низам ал-Мульк (1019—1092) указывал на необходимость комплектования постоянного войска из различных народов — дейлемитов, хорасанцев и др. (Низам ал-Мульк 1949: 109). Только на пятый год такой гулям , проявивший себя службе, мог рассчитывать на получение «лучшего седла, узды со звездами, каба 5 из дараи 6 и булавы (здесь и далее выделено нами — авт.), которую он вешал на кольцо. На шестой год он получал одежду анван 7, на седьмой — палатку с одной верхушкой и шестнадцатью клиньями, в свой отряд он получал трех гулям ов, его именовали висак-баши , он надевал черный войлочный головной убор, расшитый серебром, и гянджийскую каба . С каждым годом увеличивали почтение, украшение, отряд, чины, пока он не становился хейль-баши , затем — хаджиб ом» (Низам ал-Мульк 1949: 111).
Статусность шестопера
В приведенном пространном пассаже из Сиасет-наме («Книга о правлении») Низам ал-Мулька наглядно продемонстрировано значение булавы, как статусного оружия, демонстрирующего заработанный годами службы авторитет и положение конного воина в армейской иерархии. Исследователи уже многократно указывали на социальную статусность булав, выполнявших роль символа определенной (государственной, административной, военной) власти, являвшихся предметом вооружения определенной категории воинов, занимавших в структуре войска командующие позиции. И, очевидно, что материал, художественное оформление, декор этого социального символа, знакового церемониального
М.С. Гаджиев, А.Л. Будайчиев, А.М. Абдулаев, Р.Х. Мамаев
МАИАСП № 13. 2021
и утилитарного, в некоторой степени элитарного, оружия отражали общественный статус его обладателя, приданные ему социальные полномочия.
Рассматриваемый экземпляр булавы—шестопера из Дербента — это не представительный церемониальный предмет, а боевое оружие и командирский жезл, вероятно, использовавшийся по своему прямому назначению. Он не имеет декоративнохудожественной отделки и, тем не менее, это не отвергает его статусность, былую принадлежность его какому-то военачальнику определенного ранга. В нашем случае место находки железного навершия шестопера, как представляется, согласуется с наблюдениями исследователей о социально значимом характере этого вида вооружения.
Как отмечалось выше, навершие было обнаружено в пределах обособленной группы захоронений, окруженных прямоугольной оградой из хорошо отесанных крупных каменных плит. В пределах этого участка располагается и специальный постамент из крупных хорошо обработанных плит для установки саркофага. Обращает внимание, что три из четырех представленных на этом участке саркофагообразных надмогильных памятников, как на то обращалось внимание, выделяются своим оформлением среди всех остальных саркофагов данного могильника: на верху их корпусов расположены врезные религиозно-декоративные элементы. В двух случаях (саркофаги № 1, 2) — это восьмиконечная звезда (араб. rubʿ al-ḥizb , najmat al-Quds ) — известный мусульманский символ, именуемый иногда «исламская звезда», но более известный в литературе под названием «сельджукская звезда» (тур. Selçuklu Yıldızı), который получил распространение в Сельджукской империи в архитектурном декоре и декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика, металл) в различных вариациях. Этот факт, очевидно, служит и дополнительным доводом в пользу историко-культурной и этнокультурной связи данного типа надмогильных памятников с сельджукским миром.
Наличие отдельной, огороженной территории, специфически декорированных «саркофагов», особой каменной платформы-подиума для установки «саркофага» позволяют рассматривать данный участок могильника, как специально выделенное мемориальное место, где были захоронены представители одной социальной группы (члены одной фамилии, представители воинского сословия), занимавшей неординарное положение в социальной иерархии средневекового города. На это может указывать и находка в пределах данного участка престижного оружия. В свою очередь, и социально-репутационный характер этого погребального комплекса подчеркивает значение обнаруженного предмета вооружения, как социально статусного символа. Можно только предполагать, что найденный шестопер мог принадлежать погребенному здесь одному из упомянутых в списке «Мучеников Баб ал-абваба» командиров сельджукского воинского гарнизона, расквартированного в Дербенте.
В завершении отметим, что пока остается необъясненной связь находки навершия шестопера с погребальной обрядностью данного мусульманского комплекса. Конечно, можно предложить различные версии, но они на данный момент будут умозрительны. Например, может быть, мы имеем дело с отголоском доисламской огузской погребальной обрядности, и статусный предмет был помещен не в могилу (что запрещено мусульманскими погребальными нормами), а вблизи от нее, в укромном месте под плитой ограды. Возможно, в будущем и эта деталь найдет свое более веское толкование.
МАИАСП № 13. 2021
Список литературы Навершие булавы-шестопера из Дербента
- Аликберов А.К. 2003. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака 'ик» (XI—XII вв.). Москва: Восточная литература.
- Аликберов А.К. 2014. Средневековый культовый комплекс Кырхляр в Дербенте: устные предания и письменные источники о сорока «мучениках за веру». В: Седов А.В. (сост., отв. ред.). Исследования по Аравии и исламу: Сборник статей в честь 70-летия Михаила Борисовича Пиотровского. Москва: Государственный музей Востока, 370—391.
- Армянские источники: Галстян А.Г. (пер., пред. и прим.). 1962. Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII—XIV вв. Москва: Восточная литература.
- Волков И.В. 2005. Золотоордынское поселение Ангелинский Ерик в Краснодарском крае (предварительное сообщение). Материалы и исследования по археологии Кубани 5, 348—379.
- Гаджиев М.С. 2018. Поселение Пирмешки и его некрополь. История, археология и этнография Кавказа 14.2, 10—22.
- Горелик М.В. 2008. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным). Археология евразийских степей 5, 274—296.
- Горелик М.В. 2017. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным). Вестник института гуманитарных исследований правительства КБР и КБНЦРАН 15, 158—189.
- Гусейнов Р.А. 1967. Сельджукская военная организация. Палестинский сборник 17(80), 131—147.
- Даль В.В. 1955. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
- Дружинина И.А. 2017. Шестопер из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В.Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.). Археология евразийских степей 5, 96—104.
- Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н. 2013. О старых и новых находках предметов вооружения из североосетинского святилища Реком. В: Козенкова В.И. (отв. ред.). Очерки средневековой археологии Кавказа. К 85-летию со дня рождения В. А. Кузнецова. Москва: Таус, 74—81.
- Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н. 2020. Шестопер их аланского святилища Реком. В: Рукавишникова И.В., Радюш О.А. (отв. ред.). Древние памятники, культуры и прогресс. A caelo usqve ad centrum. A potencia ad actum. Ad honores. Сборник, посвященный Д.В. Рукавишникову. Москва: ИА РАН, 212—225.
- Запорожец В.М. 2011. Сельджуки. Москва: Воениздат.
- Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф. 1985. Вооружение. В: Колчин Б.А. (отв. ред.). Древняя Русь. Город, замок, село. Москва: Наука (Археология СССР. Т. 15).
- Лавров Л.И. 1966. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X—XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения. Москва: Наука.
- Миклухо-Маклай Н.Д. 1954. Географическое сочинение XIII в. на персидском языке. УЗ ИВАН СССР IX, 175—219.
- Монгайт А.Л. 1961. Рязанская земля. Москва: АН СССР.
- Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю. 2003. О находках некоторых образцов ударного и защитного вооружения на Северном Кавказе (XIII—XV вв.). Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа 2, 126—153.
- Низам ал-Мульк 1949: Заходер Б.Н. (пер., прим.). 1949. Сиасет-наме. Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Олеарий А. 1906. В: Ловягин А.М. (пер., комм.). Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Санкт-Петербург: А.М. Суворин.
- Словарь 1988: Шмелев Д.Н. (ред.). 1988. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 14. Отрава — Персоня. Москва: Наука.
- Стрейс Я. 1935. В: Бородина Э. (пер.), Морозова А. (ред.). 1935. Три путешествия. Москва: ОГИЗ; СОЦЭГИЗ.
- Чахкиев Д.Ю. 1986. Оружие и вопросы военного искусства позднесредневековых ингушей и чеченцев (XIII—XVIIIвв.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Москва: МГУ.
- Чахкиев Д.Ю. 2019. Оружие и вопросы военного искусства позднесредневековых ингушей и чеченцев (XIII—XVIIIвв.). Магас: Южный издательский дом.
- Шихсаидов А.Р. 1969. Ислам в средневековом Дагестане (VII—XV вв.). Махачкала: Типография Дагестанского ФАН СССР.
- Шихсаидов А.Р. 1984. Эпиграфические памятники Дагестана X—XVII вв. как исторический источник. Москва: Наука.
- Al-Tarsusi. 1947—1948. Tabsira. In: Cahen C. (ed.). Une traité d'armurerie composé pour Saladin. Bulletin d'Études Orientales 12, 103—163.
- Al-Tarsusi. 1968. Tabsira. In: Boudot-Lamotte A. Contribution à l'étude de l'archerie musulmane. Principalement d'apres le manuscrit d'Oxford Bodléienne Huntington. No. 264. Damascus: Institut Français de Damas.
- D'Amato R. 2011. EiS^popaßSiov, ßapSoÜKiov, цат^оикшг, кориу^: The war-mace of Byzantium, the 9—15 c. AD. New evidences from the Balkans in the collection of the World Museum of Man, Florida. Acta Militaria Mediaevalia VII, 7—48.
- Bakradze I. 2016. A Rare Type of Flanged Mace in the Collection of The Georgian National Museum in Tbilisi. Acta Militaria Mediaevalia XII, 207—216.
- Derbend-Nameh 1851: Kazem-Beg A. (transl.). 1851. Derbend-Nameh or the History of Derbend. Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences.
- Karamagarali B. 1992. AhlatMezarta§lari. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Nicolle D. 1988. Hungary and the fall of Eastern Europe, 1000—1568. London: Osprey Publishing.
- Nicolle D. 1999. Arms and armour of the Crusading Era, 1050—1350: Islam, Eastern Europe and Asia, London: Greenhill Books.
- Nizam al-Mulk 1960. In: Hubert D.H. (transl.). The Book of Government or Rules for Kings. The Siyasat-nama or Siyar alMuluk of Nizam al-Mulk. New Haven: Yale Univercity Press.
- Tsurtsumia M. 2018. The Mace in Medieval Georgia. Acta Militaria Mediaevalia XIV, 87—114.