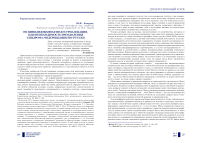Не цивилизованная индустриализация, или необходимость преодоления синдрома модернизации по-русски
Автор: Кожурин Юрий Федорович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (5), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются социокультурные особенности модернизации России
Модернизация, индустриализация, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14723479
IDR: 14723479
Текст научной статьи Не цивилизованная индустриализация, или необходимость преодоления синдрома модернизации по-русски
Цивилизация, модернизация, индустриализация есть результаты социокультурной эволюции человека. В ее основе лежит рациональность — источник способности человека понимать и создавать мир культуры, с помощью которой он решает усложняющиеся проблемы своей жизнедеятельности. «Развитие способности отвечать на усложнение человеческой реальности более сложными решениями, более глубокими смыслами представляет собой центральную проблему выживаемости, существования субъекта во всех его формах»1.
В научном сообществе России понимание исторического типа мышления человека в качестве причины воспроизводства исторически определенного типа культуры жизнедеятельности социума приобретает характер парадигмы2.
Вся история человечества — это неравномерный, противоречивый, многовариантный, многовекторный социокультурный процесс. Определяющую роль в нем играет человек, стремящийся понимать. Человек, создавая, интерпретируя, разрушая, воспроизводя культуру, решает возникающие проблемы своей жизнедеятельности. Парадокс состоит в том, что, будучи субъектом культуры человек, добровольно осуществил самоотчуждение от своей способности производить, воспроизводить и понимать культуру, сакрализировав как свою способность создавать культуру, так и им создаваемую культуру, став заложником матриц всех предшествующих исторических типов: мышления, сознания, культуры. Так что ему потребовалась понимание того, что он понимает, для того чтобы искать путь к свободе, в том числе от многообразия культурных форм, способов и средств проявления лени и веры (генератора чувственно-эмоциональной энергии социального действия). С помощью лени и веры человек защищает себя от культурных вызовов, не соответствующих его утилитарным потребностям, интересам и целям.
Человек, реагируя лишь на вызовы, соответствующие его потребностям, интересам и целям, бессознательно или осознанно активизирует свое мышление, развивает свою рассудочную деятельность и свою способность придавать «смысл разуму» (Иов. 38:36), изменяет свое сознание, а следовательно, и мотивы своей общественной деятельности. Следствиями возникновения интеллектуального напряжения человека является активизация интерпретации культуры, выступают противоположности между социальностью (живой мыслью) и культурой (овеществленной мыслью). Возникшая социокультурная противоположность способна трансформироваться в противоречие, а в случае его неразрешимости — в кризис сознания и, соответственно, в кризис воспроизводимых мотиваций социального действия человека. Новый уровень мышления и сознания как ответы человека на возникающие вызовы становятся причиной новых мотиваций, ориентирующих его на производство сознания и культуры нового уровня. Но человек может и не испытывать нужды в осознании инновационных вызовов эпохи, тогда его живая мысль будет противиться осваивать смыслы и значения культуры иного уровня стадиальности.
В основе социокультурной проблемы социума — несоответствие воспроизводимого исторического типа культуры возникшему у личностей-субъектов, детерминирующих векторы мотивации социальной деятельности массы, и пониманию необходимости в новом уровне качества потребностей, интересов и целей. Масса в отличие от народа, не поглощающего личную индивидуальность человека, «не структурирована, не обладает самосознанием и квантитативна, она лишена каких-либо отличительных свойств, традиций, почвы — она пуста. Масса является объектом пропаганды и внушения, не ведает ответственности и живет на самом низком уровне сознания»3.
Общественно значимые исторические процессы не происходят без участия массы. Масса втягивается в раскручиваемый водоворот событий, смысл и значение которых она может и не понимать. Возникает энергия эмоционального напряжения массы, нацеленной на радикализм, которую личности-субъекты используют для реализации своих утилитарных интересов и целей. Личности извлекают выгоду. Масса, растратив энергию социального действия, впадает в социальный индифферентизм — «мать Хаоса и Ночи»4. Для нее актуализируется тоска по сильной руке культовой личности. Ответом на культурные запросы массы становится политика рекультивации ценностей архаизма и традиционализма.
Для индифферентной массы предметом безразличия является не только собственность, индустриализация, державные интересы и процессы во властных структурах, политические лидеры и политические партии, избирательная система и результаты выборов, наука, образование, нравственные ценности и т. д., но и человек. Масса подвергается унизительной дискриминации, ее качество жизни приобретает характер национальной катастрофы. Спустя определенное время эмоциональная энергия массы восстанавливается, и масса снова закипает. В очередной раз в обществе назревает очередная социальная катастрофа, способная снести систему организации жизнедеятельности общества, разрушить культурные ценности, создававшиеся напряженным трудом множества людей (например, индустриальная мощь, система социальных гарантий и защиты населения в СССР). Масса вновь не будет понимать, что она «творит». Результатами очередного эмоционального взрыва массы воспользуются очередные неудовлетворенные прагматики — личности-субъекты, жаждущие извлечения выгоды в результате очередного передела собственности.
Социальный заказ на воспроизводство исторически анахроничных типов культуры жизнедеятельности — это вызов, ответом на который является массовое воспроизводство человека, адекватного этому вызову, т. е. массового человека с исторически анахроничной стадиальностью развития мышления и сознания. Энергии социального действия массы нужна социализация. Образуется инверсионный5 круг. Но социум, развитие которого детерминировано воспроизводством архаико-традиционалистских ценностей, — один из множества других, в том числе с социокультурными системами более высокого уровня или отличающимися стадиально. Возникает проблема взаимодействия людей с разностадиальным развитием мышления, общественного сознания и, соответственно, культуры воспроизводства человека, материальных и духовных ценностей.
Взаимодействие между людьми стадиальноразличных культур далеко не всегда диалог6, но оно практически всегда несет в себе потенциал дискриминационного отношения преуспевших к аутсайдерам. Это обусловливает появление новых вызовов, требующих от людей, задержавшихся в культурно-историческом вчера, адекватных ответов. Открытость социума к социокультурным процессам более высокого уровня, становится условием, детерминирующим не только возникновение эмоционального накала страстей внутри культурно отставшего социума, но и работу мышления массового человека, загружаемого инновационной информацией. Обнаруживается общественная потребность в медиации мышления7 той части массы социальных индивидов, которая включилась в активную деятельность, направленную на использование вновь возникших обстоятельств для извлечения своей выгоды. В результате появляются люди с новым качеством мышления, новым уровнем рассудочности, разума и, соответственно, новыми мотивациями социальной деятельности.
Если вновь возникшая генерация личностей окажется заинтересованной в таком источнике извлечения прибыли, как наукоемкие технологии и высокопрофессиональные способности работника, социум будет развиваться, ориентируясь на цивилизационные (инновационные) вызовы времени. Власть будет проводить политику преодоления архаики и индифферентизма массы с помощью реформ, превращающих массу в растущую численность личностей — субъектов экономических отношений, и просвещения, способствующего качественному изменению общественного сознания массового человека. Если же новая генерация личностей станет извлекать прибыль, эксплуатируя, например, недра, тогда социум вновь ожидают анахроничные времена. Масса населения будет отчуждаться от своего права получать свою долю ВНД, свободные капиталы побегут из страны, а ее социум будет развиваться по пути рекультивации архаико-традиционалистских ценностей. «Разруха от мозгов. Как человек думает, так и живет. Как живет, так и производит»8.
Однако современные геополитические процессы объективно вынуждают власть новых личностей-субъектов делать ставку на инновации, реализуя политику производства человека, адекватного вызовам цивилизации, защищая формирующееся общество от тех личностей-субъектов, чьи алчно-ненасытные потребности создают реальную угрозу национальной безопасности. Трансформация массы россиян с архаико-традиционалистской ментальностью в народ, состоящий из разумно мыслящих людей, осознающих свою личностную самость, исторически необходима. В политике же возможны откаты к анахроничным ценностям. Главное, чтобы они не стали доминантой динамики социокультурной системы модернизирующегося социума.
Стадиальный характер различий в мышлении, сознании и культуре человека — закономерность социальной истории9. В социокультурной эволюции человека выделяются два периода: синкретический и цивилизационный. Первый — с человеком, не различающим чувственные и рациональные мотивации своей деятельности. Второй — с человеком, совершившим бифуркацию сознания, осознающим смысл и социальное значение своего «Я» и своих личностных интересов, стремящим решать проблемы своей жизнедеятельности с помощью диалога, полагаясь на свои способности. Цивилизованный человек обладает способностью использовать в своих интересах безграничный потенциал возможностей, содержащихся в смыслах и значениях абстрактных реальных культурных ценностей. В этом плане, актуализируется мысль А.С. Сенявского о том, что ключевыми подходами к изучению истории России являются два: цивилизационный и стадиальный10.
В принципиальном плане цивилизация — это период социальной истории. Сущность культуры социальных отношений этого периода социальной истории определяет «уровень способности людей развивать и осваивать реальные абстракции», что «может служить критерием развития самого человека»11. Поэтому «цивилизация есть понятие более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности; ибо цивилизация все это в себе заключает»12. Цивилизация как период социальной истории, соответствует времени проявления у человека свойства категориально мыслить и соответственно решать проблемы своей жизнедеятельности, осознанно развивая свои способности, производить и осваивать мир реальных абстрактных культурных ценностей. В этом отношении цивилизация действительно «наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей»13.
Цивилизованность — это осознанно реализованное в индивидуальных способностях личности общечеловеческое свойство понимать, производить, осваивать культуру реального мира абстрактных ценностей (производственные отношения, деньги, собственность, свобода, закон, наука, мораль, вера и др.) и эффективно ими пользоваться в интересах решения проблем своей жизнедеятельности. Цивилизованность человека — результат интеллектуального напряжения многих поколений людей, озабоченных проблемой свободы как условия и способа своего выживания в изменяющихся условиях культурной среды места своей жизнедеятельности. В этом отношении цивилизованность есть интегральная сущность рефлексивной, свободной, творчески мыслящей личности, определяющая вектор ее культурной деятельности, включая, естественно, социальную, поскольку социальная деятельность это сфера отношений между живой и овеществленной мыслью человека (регламентом). Следовательно, цивилизованный человек осознанно, рефлексивно решает проблему взаимодействия между социальностью (живой мыслью) и культурой (овеществленной мыслью), что, собственно, и составляет сущность преодоления социокультурного противоречия цивилизованного общества.
В социальной истории действует принцип: «Кто отстал, тот социально беден»14. Отстающий вынужден либо смириться со своим статусом дискриминируемого, духовно нищего и искать выход в культуре лени и веры, либо догонять, преодолевая социальную бедность, становясь прагматичным, духовно богатым. Ибо выживание — это острая конкурентная борьба, ставка в которой: или достойная, насыщенная культурными благами, жизнь свободного духовно богатого гражданина, или жертва воспроизводимой архаики и дискриминации. В истории человечества проблема культурно отсталых народов решалась с помощью культурной ассимиляции. «Так называемые примитивные, или архаические, народы не исчезают, не превращаются в ничто. Напротив, они более или менее быстро ассимилируются окружающей их цивилизацией; последняя, в свою очередь, приобретает универсальный характер»15. Но культурная ассимиляция означает утрату культурной идентичности социальных индивидов и этносов. Тем более что история культурной ассимиляции отсталых народов, это, нередко, кровавая история, сопровождающаяся истреблением «всего мужеского пола...» (3-я Цар. 11:16) как социальных носителей культурной идентичности.
Преодоление инверсии мышления человека-массы у многочисленных социумов, включая россиян, задержавшегося в культурно-историческом времени господства архаико-традиционалистских ценностей и социальной бедности, потребовало иного подхода. Необходимо было, сохраняя богатство своеобразия проявления типичного в культурной идентичности социумов человечества, найти приемлемую модель выхода из социального поля культурной отсталости, по сути, трансформируя сущность и содержание мышления, сознания и, соответственно, мотивы общественной деятельности и качество культуры жизнедеятельности массы. Модернизационную парадигму как альтернативу социалистической революции16, по мнению С. Хантингтона, «можно сравнить только с переходом от примитивного к цивилизованному обществу, т. е. с возникновением и ростом цивилизованности...»17.
Люди, образующие культурно анахроничный социум, отвечая на вызовы цивилизационного времени социальной истории, трансформируя свое мышление, сознание и, соответ- ственно, свою культуру, становятся цивилизованными людьми. Таким образом, модернизация — это система культуры, с помощью которой человек учится осознавать свою личностную самость, понимать и формулировать свои социальные интересы и цели и, соответственно их стоимость и цену, поскольку с постнеолитического времени человек живет в мире товаризации культуры. В результате модернизации осуществляется системная политика производства цивилизованного человека, осознающего свое «Я», являющегося субъектом диалога и субъектом системы экономических отношений, создающих экономические стимулы для производства культуры на инновационной основе. Поэтому модернизация процесс превращения массы населения в граждан нации.
История модернизации населения России переваливает за трехсотлетний рубеж. В XVIII столетии Петр I предпринял неудачную попытку ввести Россию в состав цивилизованного мира Европы, где практически завершался процесс трансформации синкретического сознания массы горожан в рационально-гуманистическое. Там, в Европе, этому способствовали утилитаризм, гуманизация, Возрождение, нигилизм, Реформация и Просвещение.
Развитие утилитаризма как культуры осознания и достижения личной выгоды и гуманизация — осознанная ставка человека на свои способности как причины достижения своей выгоды — стали основаниями доминанты сознания, нацелевающего европейца не на смирение и синкретизм с общиной, а на личный успех. Возрождение позволило ему открыть смысл и практическое значение диалога. Превращение европейца в личность-субъект диалога соответствовало возникшей общественной потребности в интенсивно развивавшихся партнерских отношениях, способствовавших, в том числе, и формированию рынка труда.
Нигилизм стал для европейца средством осознания необходимости смены парадигмы мышления, сознания и культуры18. Реформация и Просвещение способствовали тому, что не только горожанин, но и массовый европеец оказался вовлеченным в водоворот духовно-политических событий, способствовавших смене способа его мышления, бифуркации сознания, пониманию смысла рациональной мотивации и значения прагматизма в социальной практике. Таким образом, в Европе индустриализации предшествовала модернизация. Европейский инвариант индустриализации создавал цивилизованный человек. Его мышление, сознание и, соответственно, культура общественной жизни стадиально отличались, например, от мышления, сознания и культуры социальной жизни массового россиянина XVIII в. Существенно отличается и сегодня. В противном случае россияне не проделали бы процедуру самоотчуждения от своей доли ВНД, получаемого от эксплуатации природно-сырьевых ресурсов России, и тем более, не позволили бы взимать налог с суммы дохода (заработной платы граждан), который ниже стоимости минимальной потребительской корзины.
Историчным массам19 России предстояло включиться в решение проблем, до понимания смысла которых они не созрели, в силу отсутствия для этого условий. И в XX в. модернизация населения России (СССР) осуществлялась все еще «силой авторитарного режима»20, посредством социализации21 — основы воспроизводства системы внеэкономического инициирования труда. Масса населения России не прошла свой путь понимания, освоения, развития утилитарной культуры.
Россия модернизационных волн XX столетия, решавшая проблему ивдустриализации, все еще переживала глубокий системный исторический кризис. И в начале XXI в. полиэтническое, поли-конфессиональное население России в массе своей остается в социокультурном поле архаикотрадиционалистских ценностей22 и радикализма23. А это означает, что и в постсоветское время масса россиян по-прежнему испытывает трудности, связанные с необходимым для модернизации социума «переворачиванием самих способов оценивания». «В России формировались и формируются все абстракции, которые необходимы для большого общества. Но у них слабая социокультурная база, они ограниченно и односторонне осваиваются на массовом уровне, они не превратились в основу интеграции и подчас оказываются беззащитными под ударами активизирующихся архаичных догосударственных ценностей»24. Это объективно мешает массовому россиянину осознать источник причины своей социальной нищеты в себе, а не во вне себя. Опыт неудавшихся модернизационных экспериментов «сверху» и попытки осуществления индустриализации без государственной поддержки экономического стимулирования мощного, латентного стремления массового российского человека к извлечению своей выгоды указывают на вектор поиска причин неудавшихся попыток трансформации российского населения. Массовый русский человек пока не прошел свой путь освоения культуры извлечения своей выгоды, гуманизации, Возрождения, нигилизма, Реформации и Просвещения. Массовый россиянин еще не научился понимать и выражать свой социальный интерес. Поэтому он никогда творчески, осознанно на свой личностный интерес не трудился, достойно не жил, но всегда к этому интуитивно стремился. В этом основа энергии его созидательной и разрушительной социальной деятельности.
В 2000 г. в историографии проблем индустриального наследия и модернизационных процессов в России наметился существенный поворот, который многими историками далеко не осмыслен и, соответственно, не стал предметом напряжения разума исследователя. В материалах международной конференции «Собственность в XX столетии» была обозначена проблема гуманизации25. Это в принципе должно изменить подходы исследо- вателей к проблеме интерпретации индустриализации и модернизации. В сущности, доклад В.А. Виноградова расставлял акценты, актуализируя мысль М. Хайдеггера: «Люди в течение десятилетий привыкают к тому, чтобы в качестве причин исторической ситуации эпохи приводить господство техники или восстание масс, неутомимо расчленяя духовную ситуацию времени в соответствии с подобными аспектами»26.
Между тем в исследованиях, посвященных модернизационной парадигме, все еще присутствует обаяние Сталинского понимания индустриализации как преимущественного развития промышленного сектора экономики27. Впрочем, очевидна эволюция понимания существа концепта «модернизация». Российские исследователи, «работающие в модернизационной парадигме», вышли на понимание того, что «модернизация — куда более емкое понятие», чем индустриальная доминанта28.
Однако методологически неверно рассматривать модернизацию в качестве главного вызова России в XVIII — XX столетиях29, поскольку это система способов и средств решения проблемы социальной бедности населения. Действительно, вызовом для социально бедной России с культурно отсталой массой населения XVIII30 — начала XXI столетий является не модернизация, а динамика цивилизационной (инновационной) культуры в социально богатых регионах Европы, а затем Северной Америки и Азии. Она стала проявлением нового качества мышления и сознания населения этих регионов, трансформировавшегося в народ, обретшего национальную идею и национальное самосознание. Ответом на цивилизационные процессы в мире стала модернизация по-русски, осуществляемая «сверху», «силой авторитарного режима», т. е. с полным игнорированием потребностей массы населения.
Модернизация и индустриализация сопровождаются ростом урбанизации. Они действительно антиподы патриархальности, но не противопоставимы сельскому аграрному обществу, которое также обладает способностью трансформироваться. Действительно, индустриализация — это не изменение доли промышленной продукции в ВВП, а прежде всего новый уровень энергии культуры, обусловливающий качественное изменение содержания труда и качество жизни социума. «Культура развивалась как следствие увеличения количества энергии, потребляемой на душу населения за год»31. Источником энергии воспроизводства культуры являются как внутренние ресурсы человеческого организма, так и иные, открытые им в результате научно-познавательной деятельности. Освоение иных источников энергии принципиально изменяет способы и средства производства культурных ценностей, формы организации производства и стимулирования труда, расширяет возможности удовлетворения быстро растущих потребностей человека в предметах, средствах и способах реализации интересов и достижения целей, выходящих за пределы сложившегося архаико-традиционалистского стереотипа восприятия и представления о качестве жизни. В результате принципиально изменяются мышление, сознание и образ жизни человека, а вместе с тем изменяются его социальная роль и общественная значимость. Человек становится основной ценностью социума. Следовательно, определение критерия индустриализации связано с пониманием смысла и социального значения качественно изменяющегося содержания, роли, стоимости и цены живого труда, вследствие замены ручного труда механизированным. Объективно происходит возрастание стоимости и цены живого труда во вновь создаваемой стоимости. В результате человек-работник индустриального способа производства культурных ценностей становится субъектом рынка труда и перестает продавать свои способности по цене ниже стоимости минимальной потребительской корзины. Более того, он озабочен ростом стоимости и изменением структуры минимальной потребительской корзины, добивается от власти включения в нее цены затрат на реализацию права на отдых и жилищно-коммунальные услуги.
Индустриализация — это качественное изменение способа производства, содержания труда и социальной инфраструктуры места жизнедеятельности как городского, так и сельского населения. Соответственно качественно изменяется и образ жизни аграрного общества страны, решившей проблему индустриализации: аграрное общество, оставаясь аграрным, становится цивилизованным, а производство продукции — высокотехнологичным.
Главное в экономике индустриализации — человек-работник, заинтересованный в новых технологиях производства, извлекающий из этого свою выгоду. Ибо «машины так же мало являются экономической категорией, как бык, который тащит плуг»32. Исследование индустриализации — это изучение системы «человек — индустриальная технология производства культурных ценностей — социальное богатство социума и качество жизни граждан». В смене «самих способов оценивания» содержится ответ на вопросы: почему попытки модернизации не превратили население России в народ, а индустриализация не стала предметом личного интереса советского человека? Почему советский человек не стал гражданином своей страны и легко отрекся не только от общенародной собственности и советской системы власти, но и от системы социальной защиты, гарантий своих прав и свобод?
Очевидно, что современному населению России, вынужденно задержавшемуся в культурно-историческом времени, социальной бедности, необходимо пройти свой путь освоения и развития культуры утилитаризма, гуманизации, Возрождения, нигилизма, Реформации и Просвещения. Ему еще предстоят, через осознание своей личностной самости, понимание смыслов и значений согласия и толерантности, обретение способности субъекта диалога стать, обретя национальное самосознание, народом России.

№ 5 ■ оо
2007 J 33
Список литературы Не цивилизованная индустриализация, или необходимость преодоления синдрома модернизации по-русски
- Ахиезер А.С. Динамика цивилизационного анализа российского общества/История России: Теоретические проблемы. Вып. 1.: Российская цивилизация: Опыт исторического и междисциплинарного изучения. М. 2002.
- Сахаров А.Н. История человечества едина. Относительно. Предисловие/История человечества. Т. 1. Доисторические времена и начала цивилизации. UNESCO, 2003.
- Древние цивилизации/Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
- Кант И. Критика чистого разума. М., 2007.
- Ахиезер А.С. Между циклами мышления и циклами истории//Общественные науки и современность. 2002.
- Бубер М. Два образа веры. М., 1999.
- Пригожин А. И. Диалогические решения//Общественные науки и современность. 2004. № 3.
- Ильин В.В. Философия истории. М., 2003.
- Сенявский А.С. Диктат или анархия?//Отечественная история. 2002. № 3.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 2003.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
- Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование//Общественные науки и современность. 2003. № 5.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
- Сенявский А.С. Методологическая ценность и применимость модернизационных концепций в изучении Российской истории//Информационно-аналитический бюллетень. 2006. № 4.
- Хайдеггер М. Ницше и пустота. М., 2006.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
- Алексеев В.В. Модернизация и революция в России: Синонимы или антиподы?//Индустриальное наследие: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2005.
- Виноградов В.А. К итогам международной научной конференции «Собственность в XX столетии»//Новая и новейшая история. 2001. № 2.
- Алексеев В.В., Побережников И.В. Модернизационная парадигма российской истории//Информационно-аналитический бюллетень Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории. 2006. № 4.
- Алексеев В.В., Алексеева Е.В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции//Отечественная история. 2003. № 5.
- Мельянцев В.А. Россия за три века: экономический рост в мировом контексте//Общественные науки и современность. 2003. № 5.
- Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004.