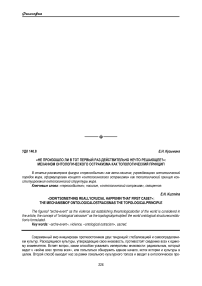«Не произошло ли в тот первый раз действительно нечто решающее?»: механизм онтологического остракизма как топологический принцип
Автор: Кузьмина Е.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена фигура «первособытия» как акта насилия, учреждающего онтологический порядок мира, сформулирован концепт «онтологического остракизма» как топологический принцип конституирования онтологической структуры мира.
"первособытие", насилие, "онтологический остракизм", священное
Короткий адрес: https://sciup.org/14083816
IDR: 14083816 | УДК: 140.8
Текст научной статьи «Не произошло ли в тот первый раз действительно нечто решающее?»: механизм онтологического остракизма как топологический принцип
Современный мир инициирован противостоянием двух тенденций: глобализацией и самоопределением культур. Расходящиеся культуры, утверждающие свою инаковость, противостоят сведению всех к единому знаменателю. Встает вопрос, каким способом усваивать императивы инаковости: радикальным, который ведет к «войне всех против всех», или попытаться обнаружить единое начало, исток истории и культуры в целом. Второй способ выводит нас за рамки локального культурного топоса и вводит в онтологическое про- странство, позволяя посмотреть на вереницу различных культур как на множество «возможных миров», рождающихся и умирающих по одной схеме, как говорил Демокрит.
Такой взгляд отличает исследование Р. Жирара, который настаивает на возобновлении поиска реального « перво события», «начала» исторического времени как акта сотворения мирового порядка: «Мы должны заново задать вопрос о первом разе: а не произошло ли в тот первый раз действительно нечто решающее?» [2, с. 115]. Однако с этим перво событием связана определенная метаморфоза: вызвав сильное впечатление, оно изгладилось из индивидуальной и коллективной памяти, но стало поддерживаться всеми культурными формами (не только религией и мифом). Согласно Жирару, все ритуальные практики указывают на убийство как изначальное событие [2, с. 116]. Практически все мифы о первоначале повествуют о первичном акте насилия и «сводятся к убийству мифического существа другим мифическим существом» [1, с. 117]. Это убийство есть акт основания культурного порядка: «От мертвого божества происходят не только обряды, но и матримониальные правила, запреты, все культурные формы, сообщающие людям человечность ( курсив мой. – Е.К. )» [2, с. 117]. Отсюда Жирар заключает, что перво событием является учредительный акт насилия.
Природа насилия в культуре мифологизируется: оно отрывается от человека и формируется как отдельная расчеловеченная сущность [2, с. 314]. Человек не принимает существование в себе насилия, в результате чего исторгает насилие вовне, тем самым формируя особую «онтологическую» сферу - священное. Культура - мир человеческого, по Жирару, конституируется фундаментальным различием между насилием и не-насилием, которое трансформируется в демаркационную линию, отличающую «посюстороннее» от «потустороннего», культуру от трансцендентного. Это радикальное различие есть онтологическая фигура, учреждающая два мира, - культуру и священное - и отношения между ними. Однажды совершенное убийство учреждает культурный порядок и вытесняется за пределы культуры: самовластное насилие удаляется «ровно на ту дистанцию, какая нужна, чтобы надзирать над людьми извне и внушать им робкое почтение, приносящее им спасение» [2, с. 314]. Динамика учреждающего насилия таит в себе загадочную для исследователей инверсию : пагубное насилие фокусируется в жертве и преображается посредством ее убиения в насилие благое, исторгнутое вовне. «Не-насилие предстает как безвозмездный дар насилия, и это представление небезосновательно, поскольку люди всегда способны примириться лишь за чей-то счет. Наилучшее, что люди могут сделать ради не-насилия, - это единодушие за вычетом единицы, то есть жертвы отпущения» [2, с. 313].
В картинах мира разных культур и разных эпох постулируется «двойственность» реальности. При этом ответ на вопрос: «В чем же исток этой двойственности?» либо отсутствует, либо выглядит как мало удовлетворительный. Теория жертвоприношения Жирара дает ключ для ответа на поставленный вопрос. Учредительная сила насилия не просто созидает культуру, более того, она онтологизирует социальный порядок [1, с. 8]. Тем самым принцип вытеснения насилия не просто «культурантропологический», а «онтологический»: исторгая насилие за пределы культуры, общество учреждает и поддерживает сферу культурного порядка, одновременно формируя трансцендентную последнему сферу «священного». Можно утверждать, что в основе онтологизации лежит механизм «онтологического остракизма» - вытеснения насилия, который конституирует структуру мирового порядка, формируя «онтологические топосы»: культуру и священное.
Жирар описывает механизм учреждения, природу и динамику священного, которая суть одно с динамикой насилия. Сфера священного конституируется «учредительным изгнанием» - «фундаментальной тайной насилия». Единодушное насилие - вот исток радикального различия, которое конституирует культуру и параллельно, но скрыто, учреждает сферу священного как насилия, исторгнутого вовне. Стремление приостановить вступление в силу закона автоматического возврата (вытесненного) насилия учреждает культуру и сферу священного одновременно, но это стремление само себя скрывает - это и есть «фундаментальная тайна насилия». Жирар утверждает, что в культуре «тайна насилия» подвергается «мифической обработке», тем самым «затушевывается» учреждающая потенция насилия, инициирующего культуру. Но мы утверждаем, что «мифическая обработка» скрывает не только исток культуры, но исток онтологизации как создания мирового порядка. Системы, в которых насилие вытеснено, «мифологичны, поскольку приписывают действие закона, стоящей вне человека силе». Жирар отмечает, что в современном обществе «мифическая обработка» усиливается, так как нам кажется, что самовластное насилие - всего лишь иллюзия, фантазия, и мы не понимаем, что «люди не поклоняются насилию как таковому: они не практикуют «культ насилия» в понимании современной культуры, они поклоняются насилию, поскольку оно им дарует единственный мир, каким они когда-либо наслаждались» [2, с. 313]. Мы смотрим на мифы, запреты и ритуалы, сопровождающие культуру, как на страшную, но вымышленную реальность, которую современная цивилизация разоблачила благодаря секуляризации. «Если мы о нем (о законе автоматического возврата насилия. - Прим. Е.К.) еще ничего не знаем, то дело, скорее всего, не в том, что мы окончательно освободились от этого закона, что мы его преодолели, а в том, что его действие в современном мире надолго отложено по неизвестным нам причинам. Именно это современная история, возможно, и начинает раскрывать» [2, с. 315].
«Стоит пересечь границы общины ( границы культуры, порядка, сферы различений . – Прим. Е.К. ), как попадаешь в сферу дикой сакральности, не знающей ни границ, ни пределов. В эту сферу священного входят не только боги, все сверхъестественные существа, всевозможные монстры, мертвые, но и сама природа, поскольку она чужда культуре, космос и даже другие люди ( не принадлежащие к общине, выходящие за круг данной культуры . – Прим. Е.К. )» [2, с. 323; 4, с. 77]. Всякая культура, по Жирару, оформляется и осознает себя по отношению к священному, которое выступает как «онтологическая» фигура – трансцендентная и сакральная: «Священное всегда проявляется как реальность совсем иного порядка, отличная от «естественной» реальности» [4, с. 17]. Но именно священное «дарует» все различия, которые поддерживают социальный порядок, учреждают культуру в целом, поскольку «культурный порядок – не что иное, как упорядоченная система различий» [2, с. 64].
Внутри топоса священного различия отсутствуют: в мифологии всех культур фиксируется «сращен-ность» благого и пагубного в сфере священного. Трансцендентная сфера, по Жирару, есть скандальная комбинация священного и насилия. Специалисты отказываются разбираться в той путанице, которую представляет из себя сфера священного, рассматривая его как многогранный феномен, предстающий во всей его сложности, часто выступающий в иррациональном аспекте [4, с. 177]. Так, например, М. Элиаде считает, что проблема исследования священного заключается в его невыразимости, апофатичности: «Для обозначения того, что заключено в выражениях tremendum, или majestas, или mysterium fascinans, мы наивно используем слова, заимствованные из сферы естественной или даже духовной, но не религиозной жизни человека. Однако такое использование лексики по аналогии обусловлено именно неспособностью человека выразить ganz andere, ведь и для обозначения того, что выходит за пределы естественного человеческого опыта, язык может использовать лишь те средства, что накоплены в языке благодаря этому опыту» [4, с. 17–18]. Единственное, что мы можем констатировать, так это противопоставленность (инаковость) священного по отношению к культуре [4, с. 18]. Сложность восприятия священного для современного мышления заключается в том, что сегодня чаще всего мы его понимаем как нравственный предикат . Р. Отто отмечает, что понятие «священного» всегда содержит отчетливый избыток , который не позволяет сводит священное к совершенно доброму и благому. «Более того, слово «священное» и равноценные ему слова в семитских, латинском, греческом и других древних языках означали, прежде всего, и преимущественно лишь этот избыток» [3, с. 12]. На невозможность восприятия современным мышлением сферы священного как целостной, недеференци-рованной указывает и Жирар. Из его примера можно четко заключить о том, что понятие «священное» сегодня имеет ценностные, этические коннотации, тогда как изначально оно имело лишь онтологический смысл. Причины подобной фальсификации понятия «священное» Жирар видит в том, что мы не понимаем ту функцию, которую выполняла религия в обществах, «более непосредственно подверженных сущностному насилию: мы продолжаем не понимать воздействие, оказываемое насилием на человеческие общества». Культурные тенденции вообще и исследования семантических структур слов, в частности, стремятся разделить то, что соединяли все древние языки, чтобы элиминировать «скандальную комбинацию насилия и священного» [2, с. 318–321].
Рассмотрев процесс онтологизации как конституирования структуры мирового порядка через механизм онтологического остракизма, можно сделать вывод: в основе всех мифов и ритуалов разных культур лежит одна и та же интуиция, учреждающая онтологическое пространство в целом. Этот вывод приводит к очень интересному наблюдению: возможно ли говорить о радикальной инаковости культур?