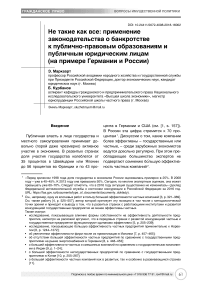Не такие как все: применение законодательства о банкротстве к публично-правовым образованиям и публичным юридическим лицам (на примере Германии и России)
Автор: Маркварт Эмиль, Курбанов Б.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 6 (201), 2018 года.
Бесплатный доступ
Авторы анализируют гражданско-правовой статус публично-правовых образований и созданных ими юридических лиц, участвующих в гражданском обороте. Показывают, что государство создает себе привилегии, ограничивая свою ответственность по долгам таких юридических лиц, что противоречит конституционному принципу равенства и равной защиты всех форм собственности, а также снижает общую эффективность государственного управления, поскольку неприменение законодательства о банкротстве к юридическим лицам позволяет существовать неэффективным предприятиям.
Ответственность государства по долгам юридических лиц, неприменение законодательства о банкротстве к юридическим лицам, разграничение компетенции между частной и публичной сферами, пакт о солидарной ответственности, конкурсоспособность юридических лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/170172979
IDR: 170172979 | DOI: 10.24411/2072-4098-2018-16002
Текст научной статьи Не такие как все: применение законодательства о банкротстве к публично-правовым образованиям и публичным юридическим лицам (на примере Германии и России)
Публичная власть в лице государства и местного самоуправления принимает довольно (порой даже чрезмерно) активное участие в экономике. В развитых странах доля участия государства колеблется от 35 процентов в Швейцарии или Японии до 56 процентов во Франции и по 43 про- цента в Германии и США (см. [1, s. 157]). В России эта цифра стремится к 70 процентам 1. Дискуссии о том, какие компании более эффективны – государственные или частные, – среди зарубежных экономистов ведутся довольно регулярно. При этом преобладающее большинство экспертов не подвергают сомнению бо́льшую эффективность частных компаний 2.
Исследования относительно России с еще большей очевидностью свидетельствуют о том, что частные компании имеют бо ́ льшую производительность труда и рентабельность по сравнению с государственными (см. [12, с. 61–87; 13, с. 5–37; 14, с. 112–129]). Помимо негативного влияния чрезмерно высокой доли участия государства в экономике на конкуренцию 3, государство, выступая тем или иным образом в гражданском обороте, зачастую стремится ограничить свою ответственность по своим долгам, в том числе изымая определенные субъекты из-под регулирования законодательства о банкротстве, что ухудшает положение его кредиторов. Это ставит вопрос об обоснованности такого подхода и его согласованности с принципом равной защиты форм собственности и равенства участников отношений, регулируемых гражданским законодательством (часть 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации, пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ). Кроме того, отсутствие дисциплинирующего воздействия законодательства о банкротстве на менеджмент публичных юридических лиц (и на самого учредителя, то есть публичноправовое образование) может обусловливать неэффективную деятельность таких субъектов. В конечном счете нагрузка от их неэффективной деятельности ложится на плечи налогоплательщиков.
Рассмотрим возможность применения законодательства о банкротстве как к публично-правовым образованиям (федерация, субъекты, муниципалитеты), так и к юридическим лицам публичных форм собственности, прибегнув к сравнительному анализу российского и германского регулирования.
Легитимация участия публичной власти в экономике
Современный этап в развитии экономики подавляющего большинства развитых стран характеризуется все большим сокращением доли государства в экономике, осуществляемым посредством приватизации, либерализации и дерегулирования (см. [17, s. 6]). Несмотря на это, среди 2 000 крупнейших мировых предприятий каждое десятое принадлежит государству (см. [18, p. 9]), что свидетельствует о том, что государство продолжает играть значительную роль в экономике 4.
Двойственное положение государства в экономике (одновременно регулятор экономических отношений и их участник) во многих случаях ведет к конфликту интересов в силу различных причин. Не в последнюю очередь причиной является то, что политики, как и остальные люди, стремятся преследовать собственные интересы (см. [20]). Это может выражаться, например, в создании правил, выгодных конкретным предприятиям или в их финансировании посредством государственных кредитов 5. Подавляющее большинство ученых, экспертов-экономистов, политиков, юристов сходятся в том, что задача государства в рыночной экономике сводится к созданию правил игры для субъектов экономической деятельности и надзору за соблюдением ими этих правил (см. [22, s. 7]). Любое иное вмешательство государства в рыночную экономику нуждается в обосновании (легитимации) (см. [23, s. 1; 24, s. 67; 25, s. 253]).
Публично-правовые образования являются особыми субъектами экономической (хозяйственной) деятельности. Природа государства и муниципалитетов – это природа властных публичных институтов, а не хозяйствующих субъектов. Наделение их гражданской правоспособностью необходимо лишь постольку, поскольку решение задач, стоящих перед публичной властью, невозможно без участия в хозяйственной жизни, вступления в некоторые гражданско-правовые отношения. И государство, и муниципальные образования обладают не общей, а специальной гражданской правоспособностью, что вытекает как из самой природы публичной власти, так и из анализа правовых норм различных правовых систем. Гражданская правоспособность публичной власти связана непосредственно с решением вопросов, которые отнесены к компетенции соответствующего уровня этой власти. В этом ее принципиальное отличие от «неограниченной» (так называемой универсальной) гражданской правоспособности обычных участников гражданского оборота. Иначе говоря, обладая специальной (ограниченной) правоспособностью, государство и муниципалитеты вправе заниматься хозяйственной деятельностью исключительно постольку, поскольку эта деятельность необходима для выполнения стоящих перед ними публичных задач.
Базовым принципом, на основе которого проводится разграничение компетенции как между частной и публичной сферами, так и между различными уровнями публичной власти, является принцип субсидиарности. Применительно к разграничению частного и публичного секторов субсидиарность предполагает, что публичная власть реализует только такие задачи, которые в существующих условиях не могут рационально решить частные лица и их объединения. Из этого же принципа вытекает и разграничение компетенции между муниципалитетами и государством (его различными уровнями) – государство принимает на себя решение только таких задач, которые не в состоянии решать местное самоуправление.
Изложенный подход является принципи- альным и существенно влияет на понимание всей системы хозяйственных отношений, в которые вступают публично-правовые образования, а также целей и задач их хозяйственной деятельности, существующих пределов и ограничений. На современном этапе общественного развития такой подход типичен (и даже естественен) для всех европейских стран и соответствует достигнутому в развитых странах мирового сообщества уровню понимания роли и задач публичной власти. Исторический и международный опыт явно свидетельствуют о губительности совмещения властных и предпринимательских функций органами публичной власти для развития в целом (подробнее см. [26, с. 12–14]).
Итак, право публично-правовых образований на занятие хозяйственной деятельностью определяется их задачами (компетенцией). То есть с формально-юридической точки зрения первым основанием легитимации является закрепление тех или иных задач (полномочий) в компетенции соответствующего публично-правового образования. Оно может осуществляться на уровне конституции, законов, уставов публичноправовых образований. При этом хозяйственная деятельность, осуществляемая публично-правовым образованием в той или иной форме (в том числе через создаваемые им хозяйствующие субъекты), должна находиться в непосредственной и очевидной связи с установленными задачами (полномочиями). Указанное соответствие – это лишь одна из предпосылок права на создание хозяйствующих субъектов и участие в них. У публичной власти существуют и иные способы решения стоящих перед ней задач (предоставление публичных услуг), например привлечение (как правило, на конкурентных началах) частных хозяйствующих субъектов, вступление в частно-публичные партнерства. Подобные механизмы, как правило, обеспечивают бо́льшую экономическую эффективность предоставления соответствующих услуг. Однако не только экономическая эффективность определяет этот приоритет. Этого же требует и реализация упомянутого принципа субсидиарности. Возможность использования указанного способа определяется наличием на рынках соответствующих услуг частных хозяйствующих субъектов, в первую очередь конкурирующих между собой. Отсутствие частных производителей услуг и конкуренции препятствует активному внедрению этого способа решения публичных задач (см. [26, с. 146–150]).
Таким образом, еще раз подчеркнем устоявшееся общее мнение о том, что экономическая деятельность публичной власти должна служить важному публичному интересу ( o ffentliches Interesse) (см. [27, s. 48]) или публичному (общественному) благу (Gemeinwohl) 6. Вмешательство государства допустимо только тогда, когда в этом есть публичный интерес, при этом государственное вмешательство не имеет других, более экономичных альтернатив (см. [27]), если некое благо не предоставляется в достаточной мере рынком или вмешательство государства улучшает результат рынка либо государственное участие более предпочтительно по сравнению с другими альтернативами (например регулирование частной экономической деятельности), допустимо участие государства в экономике как поставщика (см. [22, s. 8]).
При этом исходной предпосылкой является то, что, выступая в качестве рыночного субъекта, государство должно подчиняться тем же правилам, что и остальные участники рынка (принцип равенства). Однако государство, выступающее в роли и арбитра, и игрока, нередко меняет правила игры, предоставляя себе иммунитет от тех или иных правил рынка. Примером тому, в частности, служит регулирование имущественной ответственности и банкротства, когда в результате своей неэффективной деятельности государство (муниципалитет) либо порожденные ими государственные (муниципальные) юридические лица оказываются не в состоянии расплачиваться по своим долгам, возникшим в процессе осуществления ими экономической деятельности. Как известно, обычный рыночный механизм разрешения несостоятельности предприятий – банкротство. Но применим ли он к государству (муниципалитетам) и государственным юридическим лицам? Этот вопрос мы рассмотрим далее.
Функции законодательства о банкротстве в рыночной экономике
Законодательство о банкротстве возникает с развитием кредитования, определяет границы и принципы, в которых одно лицо одалживает, а другое кредитует (см. [29, p.14]), представляя собой цивилизованный способ разрешения неплатежеспособности должника.
В рыночных экономиках законодательство о банкротстве:
-
• кодифицирует и защищает права кредиторов, снижая, таким образом, стоимость кредита и расширяя его предложение 7;
-
• способствует повышению эффективности, выдавливая с рынка убыточные компании, приводя к более продуктивному использованию их ресурсов;
-
• предоставляет собственникам компаний косвенное средство для контроля менеджмента, подвергая неэффективных управленцев угрозе передачи контроля (см. [31]).
Таким образом, эффективная, транспарентная, предсказуемая система банкротства и прав должника/кредитора является важной составляющей финансовой стабильности (см. [32]), способствует экономическому росту и конкурентоспособности и может помочь в предупреждении и разрешении финансовых кризисов. Такая система побуждает к большей осторожности при принятии должниками обязательств и большей уверенности кредиторов при предоставлении кредита или его реструктуризации (см. [33]).
Банкротство является нормальным способом разрешения неплатежеспособности субъектов частного права, сложности появляются, когда возникает вопрос о применимости его к особым субъектам рыночных отношений.
Применимость законодательства об имущественной ответственности и о банкротстве к публично-правовым образованиям
Регулирование имущественной ответственности за долги и несостоятельности, по общему правилу, относится к сфере гражданского права. Этот подход в целом сохраняется как в немецкой, так и в российской системах права. Имущественная ответственность публично-правовых образований за неправомерные действия, напротив, относится к сфере регулирования публичного права. Применительно к предмету настоящего исследования, однако, целесообразно ограничиться лишь ответственностью за долги в рамках гражданско-правовых отношений. До 2014 года Федеральное ведомство статистики Германии выделяло их в самостоятельную группу «иные обязательства», включая:
-
• обязательства, возникающие по договору о поставке товаров, работ и услуг, в том числе товарные кредиты от факторинговых компаний;
-
• квазикредитные сделки (денежные обязательства, возникающие по договору об ипотеке, поземельного или рентного долга, финансового лизинга);
-
• долговые обязательства, возникающие по договорам о публично-частном партнерстве;
-
• обязательства, возникающие по договорам о поручительстве или гарантии (см., например, [34]).
В дальнейшем в связи с гармонизацией отчетности в Европейском союзе несколько изменилась и классификация долговых обязательств. Подобные долговые обязательства по отношению к субъектам – непубличным институтам включают обязательства, возникающие по договорам о предоставлении кредитов (отдельно – полученных в частных кредитных организациях и от некредитных организаций) и связанные с ценными бумагами (см., например, [35]).
Немецкое гражданское право не предусматривает какие-либо специальные нормы об ответственности публично-правовых образований по их обязательствам (подчеркнем, что речь идет о гражданско-правовых обязательствах). Это означает, что государство и муниципальные образования несут ответственность по своим долгам, возникшим из гражданско-правовых обязательств, по тем же основаниям и в той же мере, как и прочие субъекты гражданско-правовых отношений. Поскольку по своей природе публично-правовые образования – территориальные корпорации, на них, по общему правилу, распространяются нормы о юридических лицах. Публично-правовое образование несет имущественную ответственность по своим долгам, вытекающим из его участия в гражданских правоотношениях, в полном объеме. Публично-правовые образования несут имущественную ответственность за счет имущества, принадлежащего публично-правовому образованию на праве собственности (публичной государственной или муниципальной).
Вопрос о том, что представляет собой подобное имущество, представляется исключительно важным, ибо ответ на этот вопрос позволяет определить пределы обращения ответственности по долгам. Любое публично-правовое образование имеет собственный бюджет. В Германии публичный бюджет включает не только денежные средства, но и так называемый имущественный бюджет (Vermogenshaushalt), то есть вещи (и вещные права) представляют собой часть общего бюджета публичноправового образования. В связи с этим возникают важные вопросы, в том числе:
-
• соотношение объема ответственности и объема бюджета конкретного публично-правового образования;
-
• возможность существования имущества, на которое не может быть обращено взыскание по долгам.
Рассмотрим некоторые из этих вопросов.
Тот факт, что государство может стать банкротом и не сможет обслуживать свой долг, веками был табуизирован (см. [36, p. 2433]), да и сегодня предпринимаются попытки замолчать, скрыть эту возможность (см. [37, p. 241]). С экономической точки зрения выдвигается аргумент о том, что, поскольку государство теоретически ничем не ограничено в праве обложения налогом, финансовая несостоятельность государства невозможна (см. [38, s. 319– 325]). Указывается также на то, что государство не может быть банкротом по долгам в собственной валюте, поскольку деньги – порождение правопорядка и он может создавать их миллиардами (см. [39, s. 192]) 8. С юридической точки зрения указывается на то, что нельзя уравнивать государство и частного должника. Государство не может подчиняться процедуре такого рода, которая привела бы к ликвидации государственного имущества и удовлетворению требований кредиторов (см. [38, s. 322]) 9.
В то же время долговой кризис государств (особенно «хронических» должников вроде Аргентины и Греции) показал, что феномен банкротства государства не может больше игнорироваться 10 и требуется правовой механизм разрешения неплатежей суверена. Тем не менее, несмотря на существующие международные различные подходы (см. [42, s. 209]) 11, по сей день не существует процедура банкротства для государства.
Немецкое законодательство о банкротстве (Insolvenzordnung) исключает применение процедуры банкротства в отношении имущества государства (равно как и юридических лиц публичного права, находящихся в ведении земель, если законодательство соответствующей федеральной земли исключает применение процедуры банкротства) (см. [45, abs. 1 art. § 12 InsO]). Финансовая мощь федерации, земель и коммун считается неисчерпаемой (см. [46, s. 349]).
Российское законодательство также не предполагает банкротство публичноправовых образований как субъектов права. Введение временной финансовой администрации в отношении субъектов Российской Федерации или муниципальных образований для принятия мер по восста- новлению их платежеспособности, предусмотренное статьями 168.1 и 168.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, хотя и не выступает конкурсной процедурой, но содержит отдельные черты внешнего управления (подробнее см. [48, с. 28]).
В Германии общая процедура банкротства в отношении имущества федерации и земель не допускается, так как считается, что она неприменима для государства-банкрота (см. [49, s. 299]), ибо тогда речь идет не об удовлетворении кредиторов, но прежде всего о создании новой основы для будущего общества (Gemeinwe-sen) 12. Передача управленческих полномочий над имуществом государства конкурсному управляющему несовместима с конституционно-правовой природой полномочий государственных органов 13, а законодательство о несостоятельности «не задумывалось» о том, чтобы быть механизмом для разрешения ситуации с долгами государства-банкрота, и не предназначалось для этого (BVErfGE 15, 126). Из этого делается вывод, что преодоление финансового кризиса государства должно осуществляться с помощью административно- и конституционно-правовых средств 14.
Несмотря на изложенные соображения, многие ученые полагают, что идеи банкротства (в частности, par condicio creditorum), назначение нейтрального лица для ведения процедуры и т. д. вполне пригодны для создания международного механизма разрешения проблемы несостоятельности государств 15, поскольку институт банкротства является именно той правовой материей, которая веками занималась решением common pool problem, то есть ситуации, когда имущества (активов) должника недостаточно для удовлетворения всех кредиторов в полном объеме 16.
Банкротство юридических лиц публичного права в Германии
По общему правилу, все юридические лица (в том числе юридические лица публичного права) конкурсоcпособны, в том смысле, что в отношении их имущества может быть введена процедура банкротства (см. [49, s. 296]).
Что касается юридических лиц публичного права в Германии (к которым относятся учреждения публичного права (Anstalt-en), фонды публичного права (Stiftungen), так называемые собственные предприятия (Eigenbetrieb) и управляемые предприятия, публично-правовые образования как территориальные объединения (Korper-schaften) (подробнее о юридических лицах публичного права в Германии см. [53, с. 35–40]), то они конкурсоспособны, если их конкурсоспособность не исключена конституционными нормами либо правом соответствующей федеральной земли (см. [49, s. 298; 54, s. 114]). Упоминавшийся ранее § 12 немецкого Закона о банкротстве допускает исключение конкурсоспособности лишь для юридического лица публичного права, в отношении которого федеральная земля осуществляет контрольно-надзорные полномочия, если это прямо установлено законодательством федеральной земли.
Часть 2 этого параграфа устанавливает право работников такого юридического лица, оказавшегося в состоянии финансовой несостоятельности, на получение всех социальных выплат, причитавшихся бы им в соответствии с законодательством о банкротстве от публично-правового образования – учредителя. В соответствии с Основным законом (конституцией) исключена конкурсоспособность церквей и ее организаций (поскольку они признаны публично-правовыми организациями), так как, осуществляя права управления и распоряжения, конкурсный управляющий вторгался бы во внутрицерковные отношения (Wirkungsbereich), к которым относится и использование финансовых средств) (см. [54]) 17. Неконкурсоспособны и публичноправовые (теле) радиокомпании (BVerfGE 89, 151 f).
Сам по себе публично-правовой характер (и необходимость решать соответствующие задачи) юридического лица, таким образом, не делает его неконкурсоспособным. Однако немецкое Гражданско-процессуальное уложение устанавливает существенное для банкротства юридических лиц публичного права ограничение: не допускается принудительное обращение взыскания на объекты, которые необходимы для осуществления должником публично-правовых функций либо отчуждение которых противоречит публичным интересам (абз. 2 § 882a) (см. [49, s. 299]).
Наряду с этим необходимо обратить внимание на так называемые собственные (Eigenbetriebe) и управляемые (Regiebetrie-be) предприятия (федерации, земель, муниципалитетов) (подробнее см. [53, с. 25, 26, 37]). Такие предприятия также неконкурсоспособны, но по другому основанию: они не являются самостоятельными юридическими лицами и представляют собой организационно обособленное имущество публичной казны (соответствующего публично-правового образования); в отношении несостоятельности подобных предприятий применима норма, действующая в отношении самих публично-правовых образований (неконкурсоспособность). Ответственность по долгам этих предприятий по тому же основанию возникает у публичноправового образования, которым было создано такое предприятие.
В случае исключения процедуры банкротства возникает проблема защиты прав кредиторов юридического лица публичного права, которая, в свою очередь, приводит к необходимости обсуждения вопроса о так называемой проникающей ответственности (Durchgriffshaftung) соответствующего носителя (учредителя) юридического лица либо финансового обеспечения теми федеральными землями, которые исключили процедуру банкротства в соответствии с пунктом 2 части 1 § 12 Закона [49].
Наконец, отметим, что существует ряд юридических лиц публичного права, которые могут быть ликвидированы только посредством закона – немецкий Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) и центральные банки земель, Кредитное учреждение восстановления экономики (банк реконструкции, Kreditanstalt f u r Wiederaufbau) (см. [49, s. 301]).
Прочие юридические лица публичного права в принципе являются конкурсоспособными. Это касается как юридических лиц публичного права, принадлежащих федерации (bundesunmittelbarenjuristischen Personen des oeffentlichen Rechts), так и больничных страховых касс и их союзов, торгово-промышленных палат, гильдий ремесленников, ремесленных и адвокатских палат, публично-правовых кредитных институтов, политических партий, профсоюзов и других юридических лиц.
Однако на практике публично-правовые образования, обязанные в силу различных правовых актов обеспечивать финансовую состоятельность создаваемых ими юридических лиц публичного права, всячески стремятся не допускать несостоятельности последних. Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, равно как и иные юридические лица частного права могут быть признаны несостоятельными в рамках законодательства о банкротстве, даже если стоящее за ними юридическое лицо публичного права (участвующее в их капитале) неконкурсоспособно (см. [55]).
Особо стоит отметить применение законодательства о банкротстве к муниципальным образованиям. В отличие от государства (федерации и земель) муниципалитеты не упомянуты в цитировавшемся неоднократно § 12 Закона о несостоятельности. Однако мы уже отмечали ранее, что муниципальные образования представляют собой территориальные корпорации и в гражданских правоотношениях, по сути, выступают как корпорации публичного права. Кроме того, в отношении муниципальных образований государство (федеральные земли) осуществляет функцию надзора. С этой точки зрения муниципалитеты подпадают под признаки юридических лиц публичного права, названных в пункте 2 части 1 § 12 Закона о несостоятельности. Эта норма устанавливает, что подобные лица неконкурсоспособны при условии, что соответствующее правило установлено законодательством федеральной земли.
В Германии правовое регулирование местного самоуправления осуществляется законодательными актами федеральных земель (подробнее см. [56, с. 61–73]). В настоящее время федеральные земли активно используют предоставленную возможность в своих законодательных актах (положениях об общинах, о районах и т. п.). Так, например, в норме части 2 § 128 По- ложения об общинах Земли Северный Рейн-Вестфалия указано: «Производство о несостоятельности (банкротстве) в отношении имущества общины недопустимо» [57]. Финансово-экономическим обоснованием этой нормы традиционно считается существование так называемого пакта о солидарной ответственности (Haftungsver-bund) федерации, федеральных земель и муниципалитетов. Суть его в том, что все публично-правовые образования несут солидарную ответственность по долгам друг друга (точнее, более высокие уровни публичной власти несут ответственность по долгам нижестоящих уровней). Так, в теоретически возможном случае неспособности муниципалитета обслуживать свои долги солидарную ответственность будет нести федеральная земля, а если в аналогичной ситуации окажется федеральная земля, то федерация. Примечательно, что формально эти обязательства в законах не указаны. Однако бюджетное и финансовое законодательство федерации и земель сконструированы таким образом, что позволяют сделать подобный вывод 18.
Несмотря на однозначное правовое регулирование неконкурсоспособности муниципалитетов, нередко специалисты высказывают мнения о том, что возможность введения процедуры банкротства немецких муниципалитетов (по аналогии с США) следует обсуждать, а саму процедуру допускать как минимум в ограниченном объеме и с определенными оговорками 19.
Банкротство юридических лиц публичной формы собственности в России
Ранее уже была отмечена высокая доля российского публичного сектора в экономике. Одной из форм участия публично- правовых образований в экономике является создание ими юридических лиц – унитарных предприятий 20 и учреждений, не являющихся собственниками имущества в нормальном понимании этого термина, а также государственных корпораций 21 и публично-правовых компаний 22 (более подробно об организационно-правовых формах хозяйствующих субъектов публичной собственности см. [53, с. 39–40]).
Формально около 80 процентов организаций публичной формы собственности в России являются учреждениями, то есть некоммерческими организациями. При этом подавляющее их большинство (включая те же учреждения), по сути, занимаются предпринимательской деятельностью 23, нередко одновременно имея в том или ином виде регулятивные преимущества по отношению к другим участникам рынка 24. Все они, включая унитарные предприятия, как коммерческие организации в силу пункта 1 статьи 49 ГК РФ обладают специальной (целевой) правоспособностью, то есть наделены ограниченной способностью участия в гражданском обороте и теми или иными ограничениями имущественной ответственности (кроме унитарных предприятий) (см. [62, с. 5–15]).
Единое правовое регулирование конкур-соспособности российских юридических лиц публичной формы собственности установлено нормой пункта 1 статьи 65 ГК РФ: «Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Публично-правовая компания не может быть признана несостоятельной (банкротом)».
С практической точки зрения невозможность признания банкротом означает, что кредиторы большинства юридических лиц публичной формы собственности в случае неплатежей последних не могут прибегнуть к принудительной ликвидации имущества таких лиц и получить соразмерное своим требованиям удовлетворение (как это действует в отношении негосударственных юридических лиц). Такое положение не создавало бы проблем, если бы публичноправовое образование отвечало по долгам созданных им юридических лиц субсидиар- но. Если же государство (и муниципалитеты) как учредитель, используя свои властные полномочия, искусственно ограждает имущество «своих» юридических лиц (по существу, свое имущество) от полной ответственности, то оно должно принимать этот риск на себя и нести субсидиарную имущественную ответственность за действия созданных и контролируемых им формально самостоятельных участников оборота (см. [62]). Подобная ситуация сохраняется в российском законодательстве лишь в отношении казенных предприятий и учреждений. Она является логичной именно в силу того, что публично-правовое образование берет на себя субсидиарную ответственность по долгам этих хозяйствующих субъектов и тем самым гарантирует кредиторам удовлетворение их законных притязаний. В противном случае появляются все основания считать, что имущественно «безответственные» (государственные или муниципальные) юридические лица расшатывают и подрывают товарно-денежный оборот и основанное на нем рыночное хозяйство (см. [62]).
Серьезное беспокойство вызывает регулирование имущественной ответственности бюджетных и автономных учреждений. Федеральный законодатель не только исключил субсидиарную ответственность публичных собственников (и учредителей) таких учреждений по долгам последних, но и жестко ограничил пределы их собственной ответственности по долгам. Субсидиарная ответственность публичного собственника по долгам бюджетного учреждения оставлена лишь на случай ликвидации бюджетного учреждения и по долгам, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения. Установив новую правовую категорию «особо ценное движимое имущество» и распространив на нее в значительной мере регулирование, сходное с регулированием оборота недвижимого имущества (в первую очередь, запретив возможность бюджетных и автономных учреждений отвечать по своим долгам не только недвижимым, но и «особо ценным движимым имуществом», если оно было передано ему учредителем или приобретено за счет средств, переданных учредителем), законодатель автоматически породил гигантское количество хозяйствующих субъектов – «пустышек» с точки зрения имущественной ответственности. Следует напомнить, что общее количество бюджетных и автономных учреждений, только зарегистрированных на сайте размещения официальной информации [63], более 121 тысячи.
Особую «пикантность» ситуации придает то, что пороговые величины для признания движимого имущества «особо ценным» установлены Правительством Российской Федерации на весьма низком уровне:
-
• для муниципальных учреждений – от 50 до 200 тысяч рублей;
-
• для учреждений субъектов Российской Федерации – от 50 до 500 тысяч рублей;
-
• для федеральных учреждений – от 200 до 500 тысяч рублей (см. [64, п. 4]).
Наконец, несерьезным представляется и новое положение пункта 5 статьи 50 ГК РФ, в соответствии с которым некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (то есть 10 тысяч рублей).
Таким образом, государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения в соответствии с новым российским законодательством, по сути, не несут адекватную имущественную ответственность по своим долгам, а государство и муниципалитеты – учредители таких учреждений – субсидиарную ответственность по долгам последних. При этом учреждения не могут быть признаны банкротами. По нашему мнению, подобное положение вещей не может быть признано нормальным, а учреждения не могут признаваться равноправными участниками хозяйственных отношений.
Следует обратить внимание на то, что подобный дисбаланс обусловил необходимость поиска судами путей восстановления справедливости в условиях несправедливого правового регулирования. Важное прецедентное значение в этом смысле имеет постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 3911/13 (сохраняет свою силу). Суд, в частности, отметил, что бюджетное учреждение, заключившее договор подряда с целью выполнения капитального ремонта здания и впоследствии отказавшееся от оплаты выполненных работ, действовало от своего имени как юридическое лицо, приобретающее по заключенной им сделке соответствующие права и обязанности. Собственник учреждения (муниципальное образование) отказался от оплаты работ, поскольку он не несет ответственности по долгам бюджетного учреждения. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, однако, признал, что увеличение стоимости здания, на которое муниципальное образование имеет право собственности, влечет обязанность последнего по оплате увеличения стоимости имущества при неисполнении учреждением этого обязательства. Исключение субсидиарной ответственности по долгам учреждения не должно влечь неосновательного обогащения публично-правового образования как собственника имущества. А увеличение стоимости имущества, пока не доказано иное, признается равным стоимости спорных работ 25.
Применительно к унитарным предприятиям, самостоятельно отвечающим по долгам всем своим имуществом, публичноправовые образования в качестве их учредителей и собственников имущества по- лучили весьма широкие возможности оспаривания сделок «своих» предприятий и виндикации «их» имущества никак не соответствующие конституционному принципу равной защиты всех форм собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации) (см. [62]). При этом российский законодатель не стремится ограничить их численность и возможности создания новых предприятий. Эта линия явно прослеживается и в законодательстве, определяющем гражданско-правовой статус государственных корпораций и публично-правовых компаний.
Так, в пункте 2 статьи 6 Закона о публично-правовых компаниях установлена возможность определения Правительством Российской Федерации перечня имущества, на которое не может быть обращено взыскание кредиторов таких юридических лиц (при этом они не могут быть объявлены банкротами). Более того, по решению наблюдательного совета любая часть имущества, то есть активов такой компании, не обремененных никакими обязательствами, может быть безвозмездно передана ею (по сути, возвращена) в федеральную собственность, что делает ее кредиторов еще более беззащитными. И это при том, что такая некоммерческая организация пользуется неограниченным правом выпуска облигаций, не говоря уже о широких возможностях ведения «деятельности, приносящей доходы», иными словами, предпринимательской (п. 6 ст. 5 и подп. 16 п. 1 ст. 9 Закона о публичноправовых компаниях). Аналогичным по сути гражданско-правовым статусом обладают и некоторые государственные корпорации. Все это, разумеется, ни в коей мере не соответствует правосубъектности обычного участника имущественного оборота и превращает такого субъекта в весьма опасного контрагента (см. [62]).
Ограничение ответственности государства по долгам таких юридических лиц и неприменение к ним законодательства о банкротстве (которое, как мы уже отмечали, оказывает дисциплинирующий эффект на участников рынка) лишает как учредителя (публично-правовое образование), так и менеджмент таких предприятий стимулов для эффективного управления. Ведь если ответственности (будь это субсидиарная имущественная ответственность либо подчинение закону о банкротстве) за неэффективную деятельность нет, то можно плодить такие предприятия, не имея необходимости внедрения лучших практик управления, прогрессивных технологий и сокращения неэффективных производств 26.
В результате такие предприятия уменьшают благосостояние общества, поскольку они используют ресурсы, которые могли бы быть направлены на общественно-полезные цели, неэффективно. Неприменение к ним законодательства о банкротстве приводит к тому, что активы не переходят в те сферы, тем собственникам, где они могли бы быть использованы наиболее продуктивным образом, а государство, снимая с себя ответственность за деятельность порожденных предприятий, стимулирует своих служащих к неэффективной деятельности, издержки которой перекладываются на остальных членов общества (moralhazardproblem). Банкротство, по нашему мнению, – тот механизм, который вынудит юридические лица публичных форм собственности, занимающиеся в том или ином виде предпринимательской деятельностью, быть эффективными либо уйти с рынка, что одновременно уменьшит долю государства в соответствующей отрасли и сократит неэффективные расходы государства.
Даже с учетом того, что существование тех или иных государственных юридических лиц экономически оправданно и вызвано необходимостью выполнения государственных задач, деятельность таких лиц не должна нарушать права кредиторов, с которыми первые взаимодействуют в гражданском обороте. Права кредиторов государственных юридических лиц должны быть гарантированы. Такая гарантия, как уже указывалось, может быть двух видов: субсидиарная ответственность государства по долгам государственных юридических лиц либо применение к ним законодательства о банкротстве (как предлагает Е.А. Суханов, с исключением возможности появления у такого юридического лица какого-либо имущества, защищенного от взыскания кредиторов, и запретом свободной передачи своему учредителю имущества, не обремененного долгами).
Рассматривая вопрос о субсидиарной ответственности унитарных предприятий 27, Европейский суд по правам человека высказал позицию о том, что в каж-
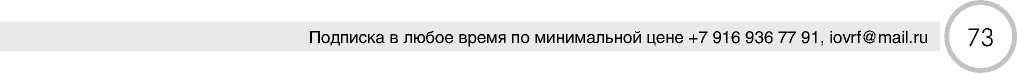
дом случае необходимо устанавливать организационно-функциональную зависимость юридического лица от государства и на этой основе принимать решение о привлечении государства к ответственности по долгам таких предприятий (см. [69]). Общим же правилом должно стать применение процедуры банкротства ко всем юридическим лицам, включая предприятия с государственным участием (state-owned enterprises). Организационно-правовая форма предприятий с государственным участием должна позволять кредиторам настаивать на своих требованиях и инициировать процедуры несостоятельности (см. [67, с. 29]). Исключения должны быть ограничены, четко определены и предусмотрены в специальном законе или отдельными положениями в законе о банкротстве (см. [70, p. 19]) 28.
Только при выборе государством одной из двух опций (несение субсидиарной ответственности по долгам своих юридических лиц либо подчинение их закону о банкротстве) можно говорить о защите прав кредиторов. В противном случае мы имеем прямое нарушение статьи 8 Конституции Российской Федерации о равенстве всех форм собственности, а также принципа равенства участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ).
Государство в лице налогового органа активно прибегает к процедуре банкротства при работе со своими должниками. Кроме того, налоговый орган активно продвигает и использует усиленный недавними изменениями 29 механизм ответственности контролирующих лиц юридического лица (см. [73]). Так почему же нельзя допустить обратную ситуацию, когда частные лица будут привлекать государство по долгам его юридических лиц? На наш взгляд, такая воз- можность напрямую вытекает из принципа равенства форм собственности и равенства участников гражданских правоотношений. Государство, являясь крупнейшим игроком в экономике, не должно создавать правила, противоречащие принципам правового государства, распространяя «дух» безответственности и возможности пренебрежения общими для всех правил. В конце концов, от качества последних зависит инвестиционная привлекательность и деловая активность, являющихся драйверами экономического роста.
Список литературы Не такие как все: применение законодательства о банкротстве к публично-правовым образованиям и публичным юридическим лицам (на примере Германии и России)
- Rodi M. Ökonomische Analyse des öffentlichen Rechts. Gabler Verlag, 2014
- Доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 год. URL: https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/documenty_doklady
- Megginson W. Netter J. From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization // Journal of Economic Literature. Vol. 39. No. 2 (Jun., 2001).
- Mühlenkamp H. From State to Market Revisited: A Reassessment of the Empirical Evidence on the Efficiency of Public (and privately-owned) Enterprises. Annals of Public and Cooperative Economics. 86:4 2015.
- Vining A. Boardman A. Ownership versus Competition: Efficiency in public enterprise. Public Choice 73, 1992.