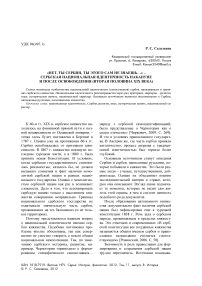Небиблейские источники трактата «О проповеди святого креста против сарацинов» Гумберта из Романса. Часть 1
Автор: Портных Валентин Леонидович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты работ по идентификации небиблейских источников трактата Гумберта из Романса «О проповеди святого креста против сарацинов» и итоги обобщений данных результатов. В полном варианте материалы будут представлены в критическом издании текста. Статья состоит из трех частей. В первой части речь идет об источниках эпохи позднего Рима и раннего Средневековья, использованных в трактате.
Крестовые походы, проповеди, источники, раннее средневековье
Короткий адрес: https://sciup.org/14737920
IDR: 14737920 | УДК: 94(4)
Текст научной статьи Небиблейские источники трактата «О проповеди святого креста против сарацинов» Гумберта из Романса. Часть 1
К 60-м гг. XIX в. сербское княжество находилось на финишной прямой пути к полной независимости от Османской империи, – точка здесь будет поставлена в Берлине в 1787 г. Однако уже на протяжении 60-х гг. Сербия освобождалась от признаков зависимости. В 1867 г. княжество покинули последние турецкие части, а в 1869 г. была принята новая Конституция. В условиях, когда сербская государственность становилась реальностью, казалось бы, не должен вызывать сомнения и факт наличия монолитной сербской нации в рамках национального государства. Однако с монолитностью сербской нации как раз и возникают сложности. Дело в том, что ассоциировать сербскую нацию только с населением княжества совершенно неправильно. Границы национального сербского государства не охватывали значительную часть сербов, проживавших на тех балканских (и не только) территориях.
Поэтому представляется важным вопрос о национальной идентичности именно сербов княжества. Подобная постановка проблемы вполне обоснована, так как совершенно не уместно говорить о неком общем национальном самосознании. Так, по замечанию сербского историка, развитие, например, Черногории «приводило к формированию специфического самосознания… наряду с сербской самоидентификацией, было представление о Черногории как о своем отечестве» [Чиркович, 2009. С. 269]. И это в условиях православного государства. В Австрии же, где часть сербов приняли католичество, процесс разрыва с традиционной идентичностью был гораздо более глубокий.
Основным источником станут описания Сербии и сербов, написанные русскими, которые побывали в княжестве. Это были разные люди – ученые, путешественники, добровольцы. Однако их объединяет именно исследовательский интерес к стране, которую они описывают. Взгляд извне подмечает те моменты, которые не видит сам житель этой страны, в чем и состоит ценность подобного рода документов.
После образования автономного княжества документально факт наличия сербской нации был зафиксирован еще в турецкой конституции 1838 г. Речь шла о сербском народе, проживающем в пределах княжества. Это отмечали и современники: «В сербской конституции все подданные княжества называются общим именем сербов и православное исповедание считается господствующим» [Ровинский, 2006. С. 50].
Значимость и роль православия для формирования и сохранения сербской нации трудно переоценить. Источники показыва-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: История © Р. С. Селезенев, 2012
ют, что с веками значимость православия не уменьшилась, и даже в новое время для простого серба принадлежность к православной религии автоматически означала принадлежность к сербской нации. Славист П. А. Ровинский в своих воспоминаниях о путешествии в Сербию цитирует разговор с одним сербом, фрагмент из которого мы не случайно вынесли в заголовок статьи – «серб остановил меня вопросом: “Кто ты?”. Объявляю, что рус. Какой веры? – Православной. – Знаешь отче наш? – Знаю. – Поговори. – Читаю… а он уставился в землю и слушает... “Да, хорошо, ты брат, читаешь, значит, ты – серб”. Начинаю пояснять, что я не серб, а русский... Нет, ты сербин, ты этого сам не знаешь…» [2006. С. 81–82].
Подобные примеры проявления сербской национальной идентичности можно продолжить: «Один крестьянский мальчик внутри Сербии в разговоре со мной спросил: “Скажи мне, англичане – это сербы или швабы?”» [Ламанский, 2006. С. 34]. О том же самом речь у А. Гильфердинга: «Есте ли ви србин?», – спрашивали меня беспрестанно, во время моего путешествия… однако знали, что я “Москов”» [1873. С. 87]. Итак, для серба национальная и религиозная принадлежность суть синонимы, одно вытекает из другого
Подобную причудливую национальнорелигиозную идентичность современники неоднократно не просто отмечали, но и анализировали. Много об этом рассуждает А. Гильфердинг: «Самый простой серб умеет отличить себя от грека и болгарина… но тождество языка, происхождения, обычаев ничего не значит перед различием вероисповедания… серб – значит православный, а православный… значит серб» [Там же. С. 87].
В. И. Ламанский пишет: «У него имя серб неразрывно связано с понятием православного… всякий православный, без различия народности, есть уже серб» [2006. С. 34].
С точки зрения серба православного, серб-католик из Австрии и не серб вовсе. Все тот же А. Гильфердинг замечал, что сербы-католики даже сами себя не считают сербами: «У нас нет ни одного серба, мы все латины» [1873. С. 87]. В. Ламанский подтверждал: «Всякий природный серб, если он католик, уже сербом не называется, а шок-цем или буневцем» [2006. С. 34].
Однако нельзя не заметить, что упоминаемое В. И. Ламанским югославянское на- селение – шокцы и буньевцы – вполне могут быть отнесены к сербскому населению, так как они говорили на штокавском диалекте, который был положен в основу литературного сербохорватского языка по реформе В. Караджича. Также общеизвестно, какую роль сыграли контакты австрийских и турецких сербов в формировании сербской национальной идентичности. Это отмечали и современники: «У болгар не было такого соседства единоплеменников, какое турецкие сербы имели в сербах австрийских и которое облегчало бы им развитие образованности и национального самосознания» [Пыпин, 1978. С. 199].
Таким образом, идентифицировать религию как общий критерий сербской национальной идентичности следует с осторожностью. Вполне вероятно, что для серба-католика основанием называться сербом являлась, видимо, не православная религия, а, допустим, происхождение предков, кровь. Так, например, разница в вероисповедании между сербами и хорватами не являлась препятствием для представлений о том, что сербы и хорваты – единый народ. По утверждению хорватского этнографа П. Матко-вича, различия между ними не «национальные», а только по религии и письменности, т. е. являются результатом внешнего влияния [Фрейдзон, 1969. С. 58]. Реформа В. Караджича еще более добавила аргументов для подобного мнения. Понятно, что идея единой сербохорватской нации была не более чем умозаключением конкретных людей, но сам факт ее наличия у представителей нации весьма показателен. Многих жителей хорватских земель даже вера не избавляла от трудностей, связанных с собственной национальной самоидентификацией. «В Славонии имелись католические священники, считавшие себя сербами, но так как сами православные относились к этому с недоумением, они перешли в хорваты… поп Пая в молодости был сербом, а в более солидном возрасте стал хорватом» [Там же. С. 60].
Можно предположить, что православная религия не обязательно являлась характеристикой национальной идентичности сербской нации в целом, а лишь характеристикой национальной идентичности православных сербов. Да и это утверждение звучит не аксиомой, если вспомнить, что мы имеем дело со второй половиной XIX столетия, когда в княжестве постепенно разворачивался процесс вестернизации, т. е. традиционное сербское общество изменялось под воздействием западных ценностей и инноваций. Видоизменялось и религиозное миропонимание, менялось отношение к самой религии – «сербская интеллигенция чуждается церкви, она стыдится религиозных убеждений, она топчет верования и обращает религию в насмешку» [Кулаковский, 2006. С. 275].
Далеко не для всех слоев модернизированного сербского общества православие сохраняло свою исключительную, объединяющую роль.
Еще одна важнейшая составляющая традиционной сербской идентичности – это память о прошлом, о борьбе с турками. Наряду с религиозной принадлежностью, историческая память становилась маркером принадлежности к сербской нации: «…Отец спрашивает маленького сына: “Кто ты?”. Он отвечает: “Сербин”. “Где пропало сербское царство?” – На Косовом поле… “Кто неприятель серба?” – Турок. – “Чего же ты им желаешь?” – Я возьму саблю и посеку им головы…» [Ровинский, 2006. С. 74].
На знаковость исторической памяти и исторической прародины для сохранения сербской народности указывает и А. Гиль-фердинг: «Православный серб, где бы он ни жил, имеет свое живое предание… его настоящая жизнь связана с народной почвою и с прежней исторической жизнью народа» [1873. С. 88].
Но опять же, в столкновении традиции и модерности многие исконные ценности меняются. И для одних сербов память о прошлом жива и борьба с врагом продолжается, а для других картина выглядела следующим образом: «Эпохи геройской борьбы давно прошли и оставили в нем смутное воспоминание…».
Язык – ключевой критерий национальной идентичности этноса. Но вокруг сербского языка как объединяющего нацию фактора возникает ряд вопросов. Дело в том, что в Сербии, до реформы В. Караджича не было общесербского языка как такового. Еще в начале XIX в. ситуация с языком в Сербии была довольно запутанной. По словам В. Караджича, «мы имели два языка в употреблении, церковный и народный» [Дмитриев, 1984. С. 113].
Роль В. Караджича в создании единого сербохорватского языка хорошо известна. За основу он взял именно народный язык, сделав его литературным. Создание единого языка, конечно же, имело огромное значение для утверждения этнической целостности. Однако даже усилий реформатора не хватило, чтобы сделать сербохорватский язык в полном смысле общесербским. Как известно, сам В. Караджич при создании литературного сербохорватского языка за основу взял новоштокавский диалект. Да и после реформы многочисленные диалекты никуда не исчезли.
Наблюдательные русские путешественники в своих рассказах о Сербии отметили еще одну особенность сербского языка – значительную степень иностранного влияния. Выше уже упоминались сетования П. А. Кулаковского по поводу пренебрежительного отношения сербской интеллигенции к религии. «“Что же остается у нее от народной сущности?” – задается вопросом русский ученый-славист и тут же дает ответ: “Язык и обычаи, и это пока бережется ею, хотя все более и более прокладывают себе путь в Сербию немецкий и отчасти французский языки”» [2006. С. 275]. Серьезную степень влияния иностранных (европейских) языков увидели многие современники, побывавшие в Сербии.
И турецкое наследие изживалось очень медленно, что вполне логично, так как за ним стояли века совместного проживания славян и турок. Даже в языке В. Караджича также присутствовали турецкие слова, причем не один десяток. Сам сербский реформатор не считал это зазорным – «есть такие турецкие слова, которые мы должны сохранить и усвоить» [Дмитриев, 1984. С. 123].
Итак, язык также не есть обязательная характеристика сербской национальной идентичности и маркер нации.
В попытке понять и изучить серба современники пробовали, каждый по-своему, описать черты сербского национального характера, выделить то, что, с их точки зрения, было характерно именно для этой нации. Серб через призму иноземного взгляда добродушен, но наивен, доверчив, но упрям, привязан к дому, но груб. Можем ли мы упомянутые современниками черты однозначно считать неотъемлемыми чертами сербской нации? Думается, что вряд ли, так как здесь как нигде проявляется субъектив- ное восприятие авторов. Каждый русский, побывавший в Сербии, пытался в своих записках ответить на вопрос, что же такое сербский народ, и каждый находил свои ответы. Как верно рассудил Н. В. Максимов – «Сербия – страна одного племени, но разных взглядов, нравов, привычек, убеждений…» [2006. С. 197].
Итак, можно сделать вывод, что ни один из рассмотренных критериев, маркеров сербской национальной идентичности, которые упоминали в своих записках русские путешественники (религия, язык, историческая память, национальный характер), нельзя считать показателем национальной идентичности всех сербов, даже проживающих в границах княжества. Общественные процессы, происходившие в сербском обществе, меняли и представления сербов о самих себе. Традиционные и объединяющие критерии национальной самоидентификации переставали быть таковыми. Даже православная религия, которая являлась «щитом народной самобытности» и среди всех перечисленных критериев выполняла действительно объединяющую роль для православных сербов, к концу века далеко не для всех социальных слоев сохраняла свой исключительный характер. Впрочем, это не мешало сербской нации существовать, осознавая свое единство. Просто каждый по-разному представлял в себе серба.
«NO, YOU ARE SERBIN, YOU DO NOT KNOW IT...» –
THE SERBIAN NATIONAL IDENTITY ON THE EVE AND AFTER RELEASE
(SECOND HALF OF XIX CENTURY)