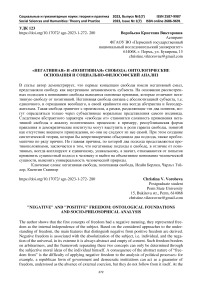«Негативная» и «позитивная» свобода: онтологические основания и социально-философский анализ
Автор: Воробьева К.В.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Культурологические и философские исследования
Статья в выпуске: 1 (7), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье автор демонстрирует, что первые концепции свободы имели негативный смыл, представляли свободу как внутреннюю независимость субъекта. На основании рассмотренных подходов к пониманию свободы выводятся основные признаки, которые отличают негативную свободу от позитивной. Негативная свобода связана с абсолютизацией субъекта, т.е. единичного, и отрицанием всеобщего, в своей крайности она всегда абстрактна и бессодержательна. Такая свобода граничит с произволом, а рамки, разделяющие эти два понятия, могут определяться только через субъективные моральные представления самого индивида. Следствием абстрактного характера «свободы от» становится сложность применения негативной свободы к анализу политических процессов: к примеру, республиканская форма правления и демократические институты могут выступить в роли гаранта свободы, понятой как отсутствие внешнего принуждения, но они не следуют из нее самой. При этом создание синтетической теории, которая бы непротиворечиво объединила два подхода, также проблематично по ряду причин. Но главная причина, по которой два подхода представляются противоположными, заключается в том, что негативные подходы к свободе, в отличие от позитивных, всегда апеллируют к единичному, уникальному, а значит, отказываются от попыток применить сущностный подход к человеку и выйти на объективное понимание человеческой сущности, выяснить универсальность человеческой природы.
Негативная свобода, позитивная свобода, исайя берлин, чарльз тэйлор, квентин скиннер
Короткий адрес: https://sciup.org/147242821
IDR: 147242821 | УДК: 123 | DOI: 10.17072/sgn-2023-1-272-280
Текст научной статьи «Негативная» и «позитивная» свобода: онтологические основания и социально-философский анализ
Философская дискуссия о свободе традиционно начинается с поиска определения данной категории, и в этом вопросе существует два подхода – «негативный» и «позитивный». При первом приближении сторонники негативного подхода делают акцент на «свободу от», а позитивного – на «свободу для». Зачастую негативная и позитивная свободы противопоставляются друг другу. Как отмечает Исайя Берлин в эссе «Два понимания свободы», негативная свобода – это невмешательство и автономия личной жизни, «очерчивание границ», а позитивная свобода предполагает в первую очередь свободу вести какой-то предписанный образ жизни [1]. В своей крайности позитивная свобода воспринимается многими мыслителями как парадоксальное утверждение о том, что людей можно «заставить» быть свободными, лишив их автономии. Более точное определение дает Чарльз Тэйлор в статье «Что не так с негативной свободой?», отмечая, что негативную свободу можно определить как концепцию «возможности», а позитивную – как «осуществление», а точнее, «человек свободен лишь до той степени, до какой эффективно самоопределяется и строит свою жизнь» [2].
Между позитивным и негативным пониманием свободы существует принципиальное отличие, выводящее нас далеко за рамки простого вопроса дефиниции данной категории. Особенно рельефно эта проблема представлена в политической философии, хотя различение свободы на негативную и позитивную имеет не только социально-философский, но и фундаментальный, онтологический смысл. Здесь будет целесообразным обозначить ряд вопросов, необходимых для дальнейшего рассмотрения в рамках данной темы. Во-первых, где можно обнаружить истоки негативного и позитивного понимания данной категории? Во-вторых, какие свойства свободы фиксируются в указанных концепциях? В-третьих, действительно ли оба подхода являются противоположными? Возможна ли некая синтетическая теория, которая их объединит?
Дискуссия о негативном и позитивном подходе к определению свободы – важная часть социально-философского и политического дискурса ХХ в. Помимо вышеупомянутых Берлина и Тэйлора, эту проблему обозначал еще Эрих Фромм, она же встречается в работах Раймона Арона и других известных мыслителей. Однако интерес к этой проблеме со стороны философии ХХ века еще не означает, что истоки данной традиции коренятся в современности. Безусловно, такое внимание к теме свободы именно в ХХ в. не может быть случайным. Зачастую защита негативного или позитивного определения свободы превращается в противостояние сторонников двух систем: капиталистической и социалистической. И с той, и с другой стороны оппоненты апеллируют к аксиологической стороне вопроса, манифестируя собственные моральные принципы. Это в явном виде прослеживается в эссе Берлина, которое заканчивается красноречивым требованием плюрализма ценностей и окончательным сведением проблемы свободы к поиску социального идеала. При этом предпосылки для такого противостояния складываются еще в древности и в средневековье, задолго до Гоббса и Руссо, на которых традиционно привыкли ссылаться оппоненты в этом споре. Целью данной статьи и является рассмотрение этих предпосылок, начиная с древневосточной предфилосо-фии и заканчивая Новым временем в рецепции таких крупных философов и историков идей XX–XXI вв., как И. Берлин, Ч. Тэйлор и К. Скиннер.
Впервые свобода становится предметом философской рефлексии еще в Древней Индии. В ней большое внимание уделяется не столько теоретическим рассуждениям о природе данного понятия, сколько рецептам и советам, помогающим достигать свободу на практике. В этом проявляется не только неспособность пока еще осмыслить свободу как отдельную, отвлеченную абстракцию, но и явный социальный запрос на избавление от тягот несвободной жизни. Изучая древнеиндийские религиозные и философские тексты, мы можем обнаружить идею о тотальном отрицании всего внешнего как необходимом акте, без которого невозможно истинное освобождение. Например, «согласно учению Санкхьи, свобода для человека единственно возможна, если он полностью и навечно освободится от всякого рода зла» [3: 169]. Здесь указывается тот путь, который приведет человека к освобождению – это путь познания и осознанные духовные практики, направленные на уход в себя, «в сферу мысли». Если свобода понимается как «свобода от», то и практика будет направлена исключительно в сторону избавления. Конечный пункт такого пути – нирвана, как абсолютное избавление, как ничто.
О причинах такого понимания свободы в Древнем мире было много написано еще классиками философии в XVIII–XIX вв. Г. Гегель, В. Соловьев и огромное количество исследователей после них писали о том, что человечество, находясь у истоков цивилизации, и не вполне овладев еще идеей свободы (овладение идеей свободы и процесс освобождения, безусловно, понималось ими как тождественное явление), стремилось «убежать» от угнетающих его внешних причин. «Человеческая личность была поглощена внешней средой» [4], т.е. силы природы, социальный порядок и политический строй, жестокость которого определялась необходимостью выживать, утверждали рабство и несвободу. Не имея возможности для объективного освобождения в социуме, человеку древности оставалось лишь уповать на умозрительную, индивидуальную свободу, свободу ОТ всего это внешнего принуждения.
С развитием цивилизации человек создавал все больше предпосылок для реального освобождения, вместе с этим и философия формулировала другие определения свободы, выдвигала другие подходы, в рамках которых свобода уже не рассматривалась только как освобождение ОТ всего, что подавляет и подчиняет. Однако в античном мире свобода продолжала определяться в негативном ключе, несмотря на некоторые предпосылки к формированию позитивного определения. Впервые слово «свобода» было использовано в философском контексте софистами. Осмысляя это понятие, они выводили на первый план именно внутреннюю автономию человека. Заслуга софистов состоит в том, что они отделили свободу от права, политики, человеческих и природных законов, и обратили внимание на индивидуальную свободу человека. Примечательно, что вслед за ними последующие поколения древнегреческих философов рассматривали свободу как αὐτάρκεια, т.е. как независимость [5].
И все же в античной философии предпринимались попытки уйти от негативного определения, создать новую концепцию, которую можно было охарактеризовать как свободу ДЛЯ или, точнее, свободу в чем-либо, как внутренний этический выбор в пользу добра и блага. У Аристотеля, которому многие склонны приписывать позитивный подход к осмыслению свободы, само это понятие встречается в различных контекстах. Например, в Никома-ховой этике можно встретить негативное понимание свободы, близкое к тому, которое было распространено на Древнем Востоке: «рассудительный ищет свободы от страдания, а не того, что доставляет удовольствие». Там же есть размышления о свободе другого рода: «право, с чем все согласны, должно учитывать известное достоинство, правда, [«достоинством»] не все называют одно и то же, но сторонники демократии – свободу, сторонники олигархии – богатство, иные – благородное происхождение, а сторонники аристократии – добродетель» [6: 151]. Здесь свобода представлена уже в ином контексте, она связана с политикой и представляет собой определенную ценностную установку, может быть распространена на группу людей или весь социум. Т.е. ее уже сложно назвать сугубо негативной, индивидуальной свободой, о которой шла речь до этого.
Однако в философии Древней Греции все же сложно усмотреть явное разграничение негативной и позитивной свободы. Как, впрочем, и само это понятие уже стало предметом философской мысли, но не получило еще определенного и в полной мере обоснованного определения. Предпосылки к окончательному различению позитивной и негативной свободы можно усмотреть в средневековой традиции, а именно в понимании свободы как преданности Христу, что довольно кардинально отличается от предшествующей традиции видеть истинную свободу во внутренней независимости субъекта от внешних обстоятельств (т.н. αὐτάρκεια). Первая философская концепция свободы в средневековой философии была сформулирована в I в. н. э. Филоном Александрийским и связывала свободу человека с божественным даром [7]. Тогда уже была распространена концепция свободы как возможности человека делать выбор, в полной мере представленная Аристотелем. Но если понимать свободу как возможность делать свободный выбор, и учитывать то обстоятельство, что люди зачастую делают выбор не в пользу добра и блага, то возникает проблема теодицеи. Со временем теология выработала решение этой проблемы: свободная человеческая воля является источником зла, и тогда бог не является ответственным за зло в мире. Сама же свобода большинством мыслителей понималась как возможность делать выбор в пользу блага, безгрешной жизни. Это не просто свобода от греха, т.к. подобная свобода есть следствие благодати. В этом смысле существует принципиальное отличие между древневосточной идеей «навечно освободится от всякого рода зла» и христианской свободой как обращенности к богу.
В гуманизме Возрождения, с одной стороны, закрепилась позитивное понимание свободы, которое выражалось как свобода беспрепятственного всестороннего развития человека и свобода творчества. Подобная идея созвучна представлению Эриха Фромма, для которого высшее проявление свободы – это «активная солидарность с другими людьми, спонтанная деятельность (любовь и труд)» [8: 35]. С другой стороны, в эпоху Возрождения проблема свободы окончательно оформилась как социально-политическая, и вместе с тем произошел некоторый «возврат» к негативному пониманию. К примеру, Квентин Скиннер выдвигает идею о том, что в «Рассуждении» Макиавелли представлена именно негативная идея свободы, но она имеет несколько иное, нежели мы привыкли, содержание. Не приходится сомневаться в том, что у Макиавелли свобода понята именно негативно: «Как он говорит об этом в первой главе книги I, быть свободным человеком означает иметь возможность действовать, “не завися от другихˮ» [9]. Однако для осуществления этой свободы необходимы определенные условия. Поэтому, чтобы добиться этой индивидуальной, негативной свободы, необходимо приложить некоторые коллективные усилия: «Для такого автора как Макиавелли, свобода индивидуальных граждан зависит в первую очередь от их способности отразить “рабство, приходящее извнеˮ». Кроме того, нужно «организовать политическое сообщество таким образом, чтобы каждый гражданин был в равной степени готов участвовать в управлении сообществом в целом» [там же].
Это, безусловно, отличается от более известного подхода, обоснованного Гоббсом, который определяет свободного человека как того, «кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать» [10: 24]. Это кажется повторением идеи Макиавелли, т.к. свобода здесь тоже понимается сугубо негативно, как индивидуальная «свобода от». Как и Макиавелли, Гоббс не видит никаких внутренних преград для осуществления свободы: «Например, если человек из страха, что корабль потонет, бросает свои вещи в море, то он тем не менее делает это вполне добровольно и может воздержаться от этого, если пожелает» [там же: 205]. Однако Гоббс в этом вопросе все же более радикален: для него свобода не зависит от формы правления, «будет ли сообщество монархическим или народным, свобода остается той же» [9]. И, как заключает Скиннер, свобода индивида здесь не зависит от свободы сообщества.
Если немного отвлечься от политической философии и посмотреть на свободу в ее фундаментальном онтологическом смысле, то можно заметить, что различение свободы на негативную и позитивную присутствует и здесь в полной мере. В качестве хрестоматийного примера негативной трактовки свободы можно указать на идеи М. Штирнера. Как идеолог анархизма, в книге «Единственный и его собственность» М. Штирнер абсолютизирует ценность свободы, но понимает ее исключительно как «освобождение», «свободу ОТ». Свою задачу автор видит в радикальном освобождении «я» от всего, что его порабощает (за основу берется именно «я» как единичное понятие, а не человек как обобщенная абстракция). Штирнер очень четко проводит границу между тем, что есть «я», что есть «мое дело», и тем, что «мне пытаются навязать». Забота о делах государства, патриотизм, религия и мораль, – это не может быть моим хотя бы потому, что «я - это ничто всего другого» (как и свобода, «я» обретает здесь свой онтологический смысл только через отрицание). И свобода, как не названный, но явно подразумевающийся социальный идеал, достигается здесь через тотальное отрицание всего, включая отрицание самой свободы как привнесенного извне социального конструкта: «Божественное - дело Бога, человеческое - дело человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т.д., это исключительно мое, и это дело, не общее, а единственное - так же, как и я - единственный» [11: 4].
Итак, свобода в таком понимании возможна лишь в результате отрицания всего, и это отрицание включает в себя и саму свободу. Тем самым мы приходим к логическому парадоксу с одной стороны, и онтологическому затруднению - с другой. Чтобы объяснить существование внешнего мира, Штирнер вынуждено приходит к субъективному идеализму, т.е. объявляет «я» «творческим ничто», из которого можно все заново создать, повторяя тем самым идеи И.Г. Фихте. Кроме того, данный пример наглядно демонстрирует, что понимание свободы только через отрицание связано с абсолютизацией субъекта, т.е. единичного, и отрицанием всеобщего. Позиция, продемонстрированная в книге «Единственный и его собственность» - это та крайность, до которой может дойти мысль в попытках найти философское обоснование свободы индивида. На примере идей М. Штирнера как раз можно увидеть, что через абсолютное освобождение от всего внешнего, т.е. через «негативную» свободу, связанную с принятием только единичного, невозможно подойти к содержательной, «позитивной» свободе, которая, вероятно, связана с принятием и познанием всеобщего (например, всеобщих связей, закономерностей и законов).
Несмотря на то, что не существует единой концепции негативной свободы, можно выделить основные признаки, которые отличают негативную свободу от позитивной. Первое, что можно заметить как на примере идей Штирнера, так и на примере концепции Гоббса, это то, что негативная свобода индивидуальна, и главным судьей, выносящим вердикт о свободе или несвободе, является сам субъект. Тем самым, рассматривая свободу в таком ключе, есть опасность впасть в крайний релятивизм и субъективизм. Кроме того, негативная свобода в своей крайности всегда абстрактна и бессодержательна. Поэтому, говоря о «свободе ОТ» в социально-философском контексте, мыслители неизменно стремятся добавить к ней что-либо. К примеру, в реальной практике люди, сами того не замечая, конкретизируют негативную свободу, каждый раз уточняя, что они имеют ввиду «свободу от... чего -то», и это «что-то» неизменно ранжируется. Как замечает Тэйлор, ограничение в виде светофора и ограничение свободы совести - две совершенно разные вещи [2]. Это кажется очевидным, т.к. люди всегда сопоставляют ограничения, препятствующие свободе, с собственными целями и мотивами. «Свобода от» наполняется определенным позитивным содержанием, приобретает некоторый смысл «свободы для». Однако трудность здесь заключается в том, что это «позитивное содержание» невозможно вывести из понятия свободы: это всегда будет некое внешнее прибавление, и вопрос о критериях такого прибавления остается открытым.
Этот тезис подтверждается и тем, что негативная свобода не может иметь качественных характеристик вследствие своей абстрактной природы. «В гоббсовской схеме нет места для понятия важности. Она позволяет делать только количественные, а не качественные суждения. B самой железобетонной версии этой концепции, когда Гоббс подходит к тому, чтобы определить свободу через отсутствие физических препятствий, перед нами открывается головокружительная перспектива измерять свободу человека так же, как и степени свободы физического объекта, например рычага» [2].
Другим неизбежным следствием абстрактного характера «свободы от» становится сложность применения негативной свободы к анализу политических процессов, из-за чего эта либеральная по своему духу концепция плохо согласуется с либеральными ценностями. Если мы возьмем за основу анализа идею Гоббса о свободе, то, как было показано ранее, такая свобода не предполагает ни политического самоуправления, ни внутренних качеств субъекта, которые способствуют практической реализации свободы. Теоретики либерализма часто делают попытку создать синтетическую теорию, прибавляя к негативной свободе эти вышеуказанные аспекты, без которых невозможно представить правового демократического государства и гражданского общества. Но, как справедливо отмечает Скиннер, эти представления как будто «несовместимы с негативным анализом свободы и предполагают другую концепцию (или даже другую теорию) политической свободы» [9].
Именно поэтому Скиннер предлагает обратиться к Макиавелли, который предлагал иной подход к негативной свободе. В этом случае возникает вопрос, является ли свобода в понимании Макиавелли индивидуальной и абстрактной? В том, что мыслитель возрождения говорил именно о негативной свободе, сомневаться не приходится, о чем уже было сказано выше. Но действительно ли она лишена тех недостатков, которые несут в себе все остальные концепции негативной свободы? Действительно, достоинством свободы у Макиавелли является тот факт, что она не равнодушна к внешнему, не замкнута в себе, как это было в Древней Индии, у Гоббса и тем более у Штирнера. Однако представляется, что важно разделять саму свободу и условия, необходимые для ее полной реализации. Республиканская форма правления здесь все же носит скорее рекомендательный, а не обязательный характер, она не привязана к самой свободе индивида. Да, демократические институты могут выступать гарантами свободы, под которой понимается отсутствие принуждения извне, но сами эти институты ей не следуют. Можно с определенной долей упрощения сказать, что по пути такого понимания свободы пошли потом многие идеологи либерализма, но в полной мере разрешить данное затруднение у них не получилось.
Токвиль определяет свободу следующим образом: «Согласно современному, демократическому, и, осмелюсь сказать, верному пониманию свободы, в принципе, каждый человек получил от природы разум, необходимый ему для устройства своей жизни, и от рождения имеет неотъемлемое право жить независимо от себе подобных во всем, что касается только его и решать свою судьбу по своему усмотрению» [12: 16]. Анализируя это определение, Р. Арон отмечает его явную неопределенность - границы, до которых может простираться личная свобода не обозначены. Кроме того, свобода в понимании Токвиля имеет одновременно негативное и позитивное содержание: она выражена через независимость и при этом это свобода в чем-либо («freedom to»).
Буржуазные идеологи часто делали акцент не столько на понятии свободы, сколько на свободах, которые закономерно отождествлялись с главными завоеваниями наступившей эпохи капитала. Свобода вообще, как идеал капиталистического общества в классическом понимании, - это прежде всего совокупность свобод: мысли, слова и печати, совести, предпринимательства и т.д., то есть это личные и интеллектуальные свободы, которые в полной мере могут быть реализованы при демократической форме правления. Демократия, в свою очередь, подразумевает политическую свободу - суверенитет всех. Вообще, следуя традици- ям просвещения, мыслители XVIII – начала XIX вв, и Токвиль в том числе, понимали под свободой в первую очередь политическую и признавали ее главной ценностью.
Тэйлор, анализируя подходы к пониманию политической свободы, относит идеи Токвиля скорее к позитивным концепциям. Он акцентирует внимание на том, что самоуправление и политическое участие – важное условие свободы в понимании Токвиля, хотя все же уточняет, что Токвиль не сводит подлинную свободу только к коллективному управлению. Однако можно не соглашаться с Ароном и Тэйлором во всем: негативное понимание свободы у Токвиля, как и у других классиков либерализма, все же превалирует. На это указывает и Исайя Берлин: «для либералов главное значение политических – или “позитивныхˮ прав, как, например, права участвовать в государственном управлении, – состоит в том, что эти права позволяют защитить высшую для либералов ценность – индивидуальную «негативную» свободу» [1].
Возвращаясь к концепции свободы у Макиавелли, мы должны обратить внимание на еще один аспект. Как было замечено ранее, негативная свобода индивидуальна, связана только с признанием единичного. У Макиавелли же есть идея о коллективной защите индивидуальной свободы, и эту идею высоко оценил Скиннер. Но здесь снова стоит разграничить саму свободу и те условия, при которых ее становление и развитие будет благоприятным. Коллективные усилия по защите государства и демократии сами по себе никак не могут породить внутреннюю свободу индивида. В сущности, Макиавелли остается в рамках общего негативного понимания свободы: он не говорит ни о каких внутренних преградах, он, если использовать терминологию Тэйлора, всецело концентрируется на свободе как «возможности», просто уделяет больше внимания тем аспектам, при которых такая возможность будет более вероятной. В то же время, наличие суверенитета, безопасности и даже республиканской формы правления не гарантирует свободу, понятую как «осуществление».
На этом моменте может показаться, что проблема кроется не в том, чем плохи или хороши классические подходы к пониманию свободы, обосновывающие ее как «свободу от», а в том, что негативная свобода неизменно противопоставляется позитивной. Но даже если мы опустим две крайние трактовки свободы, к чему призывал Берлин точно так же, как и его идейный оппонент Тейлор, мы обнаружим, что противоречия между подходами на этом себя не исчерпают. Найти компромиссный вариант в виде общей синтетической теории, включающей в себя элементы негативной и позитивной свободы, проблематично. Во-первых, это связано с принципиальным вопросом: какую концепцию – негативную или позитивную – брать в качестве основы, а какая будет выбрана в качестве дополняющей? Механически соединить их вместе не получится, т.к. при последовательном рассмотрении каждая концепция отрицает другую. «Мы не можем надеяться увязать идею свободы с обязанностью выполнять исполненные гражданских добродетелей акты общественного служения, разве что ценой немыслимого отказа от наших интуиций об индивидуальных правах» [9].
Во-вторых, где именно будет проходить граница между свободой и несвободой, и какой критерий поможет нам установить эту границу? Даже отказавшись от крайностей, сторонники противоположных подходов обнаруживают непримиримость в этих вопросах. К примеру, чтобы свобода индивидов могла бы быть увязана с идеалами гражданских достоинств, Берлин предлагает вспомнить «аристотелианское положение о том, что мы – нравственные существа, обладающие некоторыми истинными целями и рациональными намерениями, и что мы только тогда обладаем свободой в высшем смысле этого слова, когда живем в таком сообществе и действуем таким образом, когда эти цели и намерения реализуются так полно, как это только возможно» [1]. Подобное утверждение звучит наивно, и, более того, в этом моменте Берлин противоречит сам себе. В отличие от теоретиков XIX в. и, в частности, от Токвиля, он признает невозможность постулирования вечных абсолютных ценностей, хотя и пишет, что «идеал свободного выбора целей, не претендующих на вечность, и связанный с ним плюрализм ценностей, – это лишь поздние плоды нашей угасающей капиталистической цивилизации: этот идеал не признавали примитивные общества древности, а у после- дующих поколений он, возможно, встретит любопытство и симпатию, но не найдет понимания» [1].
Но главное отличие заключается в разных подходах к пониманию природы человека. Как отмечает Скиннер, «это спор au fond о том, можем ли мы надеяться найти объективное понимание eudaimonia или процветания человека» [9]. В этом случае себя проявляет главное отличие негативного и позитивного подхода: концепции свободы как возможности апеллируют к единичному, уникальному, а значит, отказываются от попыток применить сущностный подход к человеку и выйти на объективное понимание человеческой сущности, выяснить универсальность человеческой природы. Напротив, сторонники свободы как осуществления исходят в первую очередь из познания всеобщего, а значит, гораздо оптимистичнее смотрят на вопрос, сформулированный Скиннером.
Заключение
Таким образом, можно выявить определенную закономерность в понимании свободы, если посмотреть на развитие философской мысли о свободе как на целостный процесс. Первые трактовки этой категории были неизменно негативными. И сейчас многие люди, даже отдаленно не знакомые с философией, определяют свободу как возможность ни от кого и ни от чего не зависеть. Первая претензия к такому пониманию свободы состоит в том, что определение через отрицание не есть достаточное определение. Мы видим, чем свобода НЕ является, но по-прежнему не имеем представления о том, чем она является. Такая «свобода» граничит с произволом, а рамки, отделяющие эти два понятия, становятся размытыми и, в лучшем случае, определяются через субъективные моральные представления самого индивида. Потребовался долгий путь, прежде чем негативно понятая свобода уступила место ее позитивному истолкованию, что и произошло в средние века. Как отмечал Фромм, «человеческое существование начинается тогда, когда достигает определенного предела развитие деятельности, не обусловленной врожденными механизмами: приспособление к природе утрачивает принудительный характер, и способы действий уже не определяются наследственностью, инстинктами. Иными словами, человеческое существование и свобода с самого начала неразделимы. Здесь имеется в виду не позитивная “свобода чего-то” а негативная “свобода от чего-то” в данном случае свобода от инстинктивной предопределенности действий» [8: 32]. Поэтому сначала была открыта негативная свобода в ее онтологическом смысле.
Важно отметить, что отвлеченные суждения о правильном определении свободы как категории, и рассуждения о свободе как явлении, проявленном в практическом, социальнофилософском смысле, все же несколько разнятся. Возможно, поэтому в эпоху Возрождения и Нового времени сосуществовали противоположные подходы к свободе. С одной стороны, это были позитивные представления о свободе человека-творца, с другой стороны, появились первые социально-философские концепции о свободе как освобождении от внешнего принуждения, отражающие общественный запрос зарождающейся буржуазии. Именно эти концепции легли в основу либерализма и долгое время воспринимались не только как мейн-стримовые, но и как наиболее реалистичные в плане их претворения в жизнь. Однако абстрактный характер индивидуальной «свободы ОТ» не позволил в полной мере сформировать непротиворечивую жизнеспособную концепцию, и даже сторонники негативного подхода начали поиски возможности совместить негативную свободу с теми требованиями современной действительности, к которым ранее эта концепция была равнодушна.
Что касается позитивно понятой свободы, то и здесь находится множество вопросов, которые на данный момент остаются неразрешенными. Используя грубый, недиалектический подход к этой концепции, мы рискуем впасть в другую крайность, связанную с абсолютизацией всеобщего и отрицанием единичного. В таком случае претензии идейных оппонентов в том, что позитивная свобода в своей сущности антигуманна и стремится «заставить» людей быть свободными, лишив их автономии, будут справедливы.
С. 131–151.
Список литературы «Негативная» и «позитивная» свобода: онтологические основания и социально-философский анализ
- Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19–43.
- Тэйлор Ч. Что не так с негативной свободой? // Логос. 2013. № 2(92). С. 187–207.
- Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. СПб.: Наука, 2006. 350 с.
- Соловьев В. Исторические дела философии // Вопросы философии. 1988. № 8. С. 118–125.
- Пархоменко Р.Н. Понятие идеи свободы в античной и средневековой философии // Философия и культура. 2013. № 5. C. 701–708. DOI: https://doi.org/10.7256/1999-2793.2013.05.12.
- Аристотель. Никомахова этика / // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. / [пер. с древнегреч.]; Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. Т.4. С.53–294.
- Пархоменко Р.Н. Генезис идеи свободы в западноевропейской философии // Философская мысль. 2012. № 4. С. 179–210.
- Фромм Э. Бегство от свободы / Фет А. И. Собрание переводов. Эрих Фромм. Бегство от свободы // Philosophical arkiv, Sweden, 2016. С. 4–216.
- Скиннер К. Идея негативной свободы: философские и исторические перспективы // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2011. № 3. С. 131–151.
- Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс; пер. с англ. А. Гутермана; вступ. ст. А. Филиппова. М.: РИПОЛ классик, 2017. 608 с.
- Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер; пер. Гиммельфарб Б.В., Гохшиллер М.Л. АСТ, 2021. 480 с.
- Арон Р. Эссе о свободах / Пер. с франц. Н.А. Руткевич. М.: Праксис, 2005. 195 с.