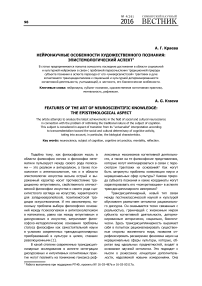Нейронаучные особенности художественного познания: эпистемологический аспект
Автор: Краева А.Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка осмыслить последние достижения в области социальной и культурной нейронауки в связи с проблемой переосмысления традиционной природы субъекта познания в аспекте перехода от его «универсалистской» трактовки в духе когнитивного трансцендентализма к социальной и культурной детерминированности когнитивной деятельности, учитывающей, в частности, его биологические особенности.
Нейронаука, субъект познания, художественная когнитивная практика, ментальность, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/14114213
IDR: 14114213
Текст научной статьи Нейронаучные особенности художественного познания: эпистемологический аспект
Подобно тому, как философская мысль в области философии логики и философии математики пульсирует между своего рода полюсами — это реализм и антиреализм, а также психологизм и антипсихологизм, так и в области эпистемологии искусства весьма острый и выраженный характер носит противостояние традиционно интуитивного, свойственного отечественной философии искусства и своего рода сциентистского взгляда на искусство, характерного для западноевропейской, позитивистской традиции искусствознания. И это закономерно, поскольку проблема выбора философских оснований между психологизмом и антипсихологизмом в математике, равно как между интуитивным и дискурсивным в искусстве, затрагивает философско-методологические основания проблемы статуса философии как самостоятельной науки в условиях современных трансдисциплинарных преобразований в культуре в целом, ставших революционными [1].
В какой степени современные трансдисциплинарные исследования в аспекте интеграции дискурсивных и интуитивных когнитивных практик могут повлиять на понимание генезиса реф- лексивных механизмов когнитивной деятельности, а также на те философские представления, которые могут имплицироваться в связи с пересмотром трактовки их оснований? Как могут быть затронуты проблемы коэволюции науки и нерациональных сфер культуры? Какова природа субъекта познания и какие координаты могут характеризовать его «конкретизацию» в аспекте трансдисциплинарного измерения?
Трансдисциплинарный, новый тип связи между постнеклассической наукой и культурой обусловлен размытием онтологии рационального дискурса. Он оказывается тесно связанным с реальностью, граничащей с жизненным миром субъекта когнитивной деятельности, детерминированным исторически, социально, биологически. Здесь трансдисциплинарность выражает себя в попытках рационализировать существенные стороны жизненного мира, позволяя от-рефлексировать расширение феномена науки на нерациональные сферы культуры, которые, обретая вид идеальных предметностей, входят в основание научной онтологии. Это подводит к мысли о ренессансе концепции дополнительности, наделяемой новыми измерениями. Она предполагает сосуществование дополняющих друг друга когнитивных интерпретаций картины мира, принадлежащих к разным дискурсам и выражающих разные онтологии, однако относящихся к одной и той же трансдисциплинарной реальности, а также к изменению представлений о природе субъекта познания в аспекте соотношения трансцендентального и ситуативного [2]. В этом случае трансдисциплинарность преимущественно выступает в форме так называемой Мод2, которая предполагает участие в соответствующем процессе и теоретической, и собственно практической составляющей [3, с. 12—13].
Это делает легитимным и своевременным анализ искусства в рамках трансдисциплинарной парадигмы и позволяет убедиться в справедливости утверждения о том, что «в той же степени, в какой искусство трудно представить себе без спонтанности, столь же мало спонтанность, это ближайшее к creationexnihilo, является альфой и омегой искусства» [4, с. 248]. Интерпретация когнитивных установок субъекта познания во взаимосвязях научной и художественной когнитивных практик оказывается важным и малоисследованным фактором, способным пролить свет на ряд проблемных узлов, возникающих в ситуации современной реконструкции познания [5, с. 6].
Стремление рассматривать художественную когнитивную практику в онтологическом пространстве трансдисциплинарности сделало возможным для искусствознания войти в тандем нейронаучных исследований. В настоящее время всё настойчивее говорят о разворачивании социально-культурной революции в системе когнитивных наук, особенно в нейронауке, определяющейся синтезом представлений из области физиологии, генетики, психологии, физических методов исследования (имея в виду, например, функциональную магнитно-резонансную томографию), лингвистики, социологии и даже археологии [6]. Данные исследований в указанных областях позволяют пересмотреть традиционные представления о процессах, происходящих в мозге человека, темпорального аспекта его существования, деятельности субъекта и всего когнитивного пространства культуры. Речь идет о ренессансе деятельностного подхода, наделённого новыми измерениями [2, с. 136]. Оказавшись в ситуации сложных трансдисциплинарных когнитивных взаимодействий в культуре, «исподволь» внедряясь в парадигмальный каркас энактивизма, искусство оказалось способным перекрыть брешь между науками о жизни (life sciences), к которым относят теорию биологической эволюции, нейрофизиологию, теорию психомоторного действия, компьютерными технологиями и эпистемологией [7, с. 141].
Исследования в области нейроэстетики по проблеме происхождения нашего чувства прекрасного, поднимающей вопросы физиологических оснований художественной когнитивной практики, на сегодняшний день представлены весьма широким спектром точек зрения самой разной направленности — от «социальных» и «психологических» до биологических «экологоэволюционных» гипотез. Значительно реже, но всё же упоминается и «модель сенсорной эксплуатации» [8], являющаяся, по сути, предположением о «внутренних особенностях нервной системы», а также о сетевой организации когнитивно-художественного пространства культуры [9—11].
В рамках концепции деятельностного трансцендентализма [2, с. 134] сквозь призму феномена телесности, который являет собой бинарную оппозицию души и тела, формирующую единое пространство, фиксирующее в совокупной целостности природные, психологические и социокультурные регулятивы сущности человека [12, с. 71], художественную когнитивную практику можно определить как «живую», подвижную, но относительно стабильную в определенные промежутки времени (запечатлённую в форме произведения искусства) структуру, существующую конкретно «здесь» и «сейчас». Телесность является тем познавательным инструментом, с помощью которого можно чётче обозначить контуры структурной и функциональной «вписанности» трансцендентального субъекта в «ситуативное или контекстно-обусловленное» (embeddedcognition) когнитивное пространство [13], которое предполагает принцип деятельностной и нейробиологической детерминированности его функционирования, а также его «включённость» в социокультурный контекст. Среди современных нейробиологов доминирует идея так называемого «психонейронного монизма», согласно которой источники человеческой мысли в принципе могут быть прослежены вплоть до некоторого материального базиса [14, p. 4]. Представляется, что фактически эта идея воплощается в недавно оформившемся движении нейроконструктивизма, которое считает своим непосредственным предтечей Ж. Пиаже [15, 16]. Его лейтмотив заключается в идее о том, что эпигенез осуществляется по вероятностным законам, т. е. развитие живой системы, проходящей ряд автономных стадий, находится в непосредственной зависимости от внешних ус- ловий (социальных и культурных факторов) и приобретаемого ею опыта, что обеспечивает системе значительный потенциал пластичности мозга и, соответственно, адаптации.
Идея культурной обусловленности художественно-когнитивной практики и её обратного воздействия на мозг состоит в том, что культура оказывает существенное воздействие на объективные биохимические процессы, протекающие в мозге, и на изменение генетического материала человека, которые, в свою очередь, могут предрасполагать их носителей к формированию и поддержке определенных социальных и культурных сред, напрямую связанных с характером восприятия, рассуждения и особенностями познавательной деятельности человека в целом [2, с. 137]. Исследования в области культурной нейронауки в аспекте изучения феномена ментальности демонстрируют различие когнитивных стратегий, свойственных носителям различных культур.
Опыт, накопленный немецким искусствознанием начала XX века, подготовил почву для важнейшего в направлении трансдисциплинар-ности исследовательского шага в направлении культурологического анализа искусства, направленного на проблему выявления и обоснования художественно-исторических циклов (работы О. Вальцеля, К. Фосслера, Г. Корфа, В. Дибелиу-са, Б. Зейфорта, А. Гильдербранда, К. Фолля). Обобщая, О. Вальцель неоднократно фиксирует повторяющуюся закономерность — при смене господствующего канона начинают возникать не разрозненные опыты «отклонения от нормы», а некая общая тенденция, система взаимообусловленных приёмов. При этом аналогичные приёмы проявляются одновременно у представителей разных видов художественных практик совершенно независимо друг от друга. Учитывая, что большие и существенные сдвиги в искусстве (Ренессанс и Барокко, Классицизм и Романтизм) захватывают одновременно все его виды, О. Вельцель выдвигает гипотезу, что причины, породившие этот сдвиг, каждый раз оказываются за пределами собственно художественного ряда и коренятся в более фундаментальных процессах духовной культуры. Тщательный анализ конкретного материала истории литературы, изобразительного и музыкального искусства показал, что на любые, казалось бы, внутренние вопросы — о художественном цикле, каноне, традиции и новации, о границах бытования отдельных стилей и направлений — можно ответить, только связав их с ментальной историей человечества [17, с. 55]. Г. Зедльмайр, продолжая линию своих предшественников, справедливо полагает, что великие и значительные явления в разных искусствах возникают отнюдь не на почве стиля, жанра или иных художественно-когнитивных дефиниций. Генезис произведения искусства обнаруживается в некоей «электродуге», возникающей между представлениями отдельного субъекта художественного творчества и интенцией того ментального поля, к которому он принадлежит или с которым он соотносится [18, с. 196]. Позиция нейроэпистемологии подтверждает утверждения современных исследований, что искусство не развивается из неких собственных начал — «последовательную внутреннюю «логику искусства» в истории всегда готова прервать непредсказуемая «метафизика социума»» [17, с. 59].
Данные нейронаучных исследований, предметом которых были Восточная, Западная и Российская этнические культуры, демонстрируют различие художественно-когнитивных стратегий, свойственных их носителям, и соответствующего набора генов, оказывающих прямое влияние на характер художественно-когнитивной практики. Примером тому является существование равномерно темперированного музыкального звукоряда — акустического пространства европейской профессиональной музыкальной (академической и эстрадной) практики с XVIII века вплоть до наших дней, ставшего стандартом музыкального строя, детерминированного строгими рациональными математическими вычислениями. Среди первых теоретиков нового равномерно темперированного строя — немецкий математик и искусствовед начала XVI века Г. Грамматеус (лат. Henricus Gramma-teus), а также французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки М. Мерсенна (фр. Marin Mersenne). Фламандский математик С. Стевин (нидерл. Simon Stevin) в своём труде «О теории певческого искусства» (1585 г.) дал математически точный расчёт равномерной темперации [19].
Восточные системы темперации имеют абсолютно иные, нерациональные и часто нефор-мализуемые социокультурные детерминанты. Совокупность локально-исторических арабских восточных музыкальных традиций — при всём различии частных и специфических особенностей каждой — обобщённо называют «макамо-мугамной традицией», или «макаматом» (maqamat) [20]. Нерациональность, интуитивность и импровизационность восточной музыкальной культуры закреплены в её принципиально устной традиции. Несмотря на обширное количество теоретических описаний макама (восходящее к трудам С. Урмави и А. Мараги), музыкальная нотация макама до сих пор не унифицирована.
Как и в случае с европейскими монодиче-скими ладами (например, древнегреческими «гармониями» Платона), отдельным макамам приписываются определённые этосы и аффекты (разные в локальных и исторических традициях), которые способен воспринять только слушатель, погружённый в контекст конкретной специфической восточной культурной традиции [2]. Некоторые конститутивные музыкальные интервалы в ладах (ладовых звукорядах) данной традиции акустически отличаются от тонов, полутонов, терций и других интервалов, присущих западноевропейской диатонике и хроматике, и часто — невозможностью аналитической фиксации посредством нотации, что делает затруднительным их восприятие слушателем, воспитанным в традициях академической музыки «западного» мира. Сложнейшая акустическая орнаментальность — обилие обертонов, интонационная изменчивость, относительность ступеневых и тоновых параметров, подчас абсолютно исключающих возможность «нотной проекции» их контура, — качественная характеристика восточной музыкальной традиции. Подобно тому, что отличительной чертой арабомусульманской музыкальной культуры является «музыкальная каллиграфия» — обилие всевозможных музыкальных украшений: мелизмов, форшлагов и трелей, в исламской традиции существует культ письменности. Арабская каллиграфия, отличающаяся изысканной орнаментикой, является видом искусства, компенсирующим отсутствие в арабо-мусульманской культуре изобразительных искусств.
Сопоставление систем темперации западноевропейской и восточной музыкальной традиции весьма ярко иллюстрирует достоверность данных, полученных в ходе экспериментов в области культурной нейронауки. Они показывают, что культура задаёт угол зрения, ракурс обработки информации, поступающей в мозг от некоторого одного предмета. При этом сам процесс выделения самого предмета (фона, его онтологического контекста) задаётся именно этим ракурсом. В результате у носителей разных культур активизируются разные участки мозга: у европейцев это преимущественно затылочно-височные отделы коры мозга, ответственные за выделение отдельных объектов, а у представителей Восточной Азии — так называемая парагиппокампальная извилина (gyrus parahippocampalis), которая прежде всего обрабатывает контекст, фон, на котором находится объект [2, с. 141]. У восточных народов нейронные сети более активны в районах мозга, отвечающих за взаимодействие с другими носителями сознания и эмоциональной сферой, а у западных — в районах мозга, которые осуществляют функции самоописания и процессуальной эмоциональной реакции, относящейся к продолжающейся социальной деятельности [21, p. 298]. Это говорит в пользу высокой степени пластичности мозга: с одной стороны, он представляет собой сугубо биологическую (нейробиологическую) структуру, а с другой — его наполнение на сознательном и подсознательном уровнях детерминируется культурой, которая закрепляет себя уже на физиологическом (в онтогенетических и филогенетических аспектах) и оказывает обратное влияние на различные социокультурные реалии. Носители западноевропейской культуры привержены ярко выраженному аналитическому стилю мышления с доминированием склонности упорядочивать системы вещей с опорой на законы формальной логики и концептуальные категории, «принципа непротиворечия», опоры на дискретность структуры мира [2, с. 141]. Определяющим здесь следует считать отличие в западной и восточной культуре отношения к возможностям разума. В западной культуре ведущей, преобладающей была рационалистическая тенденция, отдававшая приоритет разуму, рациональному началу, абстрактному, логическому мышлению. Она проявлялась во всех видах культуры: науке, философии, искусстве. К примеру, в Европе в XVII веке возникает новое направление в искусстве — классицизм, основой которого был рационализм Декарта, — искусство строгое, рационалистическое, в котором господствует системность, упорядоченность, соразмерность, строгая иерархия жанров. Дух рационализма вносится даже в природу — возникают искусственные, геометризованные парки (например, Версальский, Петергофский). Восточная традиция в искусстве всегда тяготела к целостности восприятия, к образному, ассоциативному мышлению, интуитивному познанию и по большому счёту не склонна к выработке абстрактных теорий и формализации. Главные факторы художественного творчества — воображение, интуиция, озарение, просветление, умение видеть необычное в повседневном, постижение скрытой красоты, которое требует сосредоточенного, неспешного созерцания, — отсюда часто отсутствие фиксации нотных текстов, импровизационность воспроизведения, обусловленные самодовлеющим значением ор-наментальности восточной музыки. В исламе любое (скульптурное, художественное или музыкальное) изображение человека под запретом, поэтому самодовлеющее значение в восточном искусстве всегда имел орнамент. В музыкальном искусстве это явление получило название орнаментики — совокупности специальных музыкальных приёмов, применяющихся для «украшения» мелодии путём использования обилия звуков относительно мелкой длительности, разнообразящих основной мелодический рисунок. Восточный орнамент не зря назвали «музыкой для глаз», настолько он разнообразен и богат. И в самом деле, восточная музыка и восточный орнамент имеют много общих признаков. Это совершенно оригинальное явление, как национальное, так и стилевое, соединило воедино черты, характеризующие восточную музыку, и лучшие традиции русской классической музыки. Чередование сильных и слабых долей напоминает чередование линий в орнаменте: линия сверху — линия снизу; напоминает и чередование цвета: синий — голубой. Линии, которые одновременно являются линиями двух фигур, сразу вызывают в памяти наложение и соединение голосов. Несколько фигур, образующих другие фигуры напоминают гармонию-аккорд, или полифонию (вертикаль голосов). Линии орнамента движутся в пространстве, как линии мелодии длятся во времени. Орнамент — это «запечатленная мелодия». В русской классической музыкальной традиции XIX века мотивы Востока характеризует целый комплекс ладогармонических, ритмических, тембровых и интонационно-тематических признаков, лишь весьма «условно», в силу использования западноевропейской системы музыкально-выразительных средств.
Таким образом, применённый в данном случае в качестве объяснительного теоретикопознавательного принципа деятельностный подход позволяет предположить, что знание необходимо анализировать с учётом порождающих его, в том числе нейробиологических механизмов и социокультурной детерминации, выполняющих роль априорных матриц. Когнитивный инструментарий, который оказывается задействован субъектом в процессе его познавательной деятельности, фундируется социокультурным базисом и обусловлен пребыванием в определённом культурном контексте, формирующим онтогенетические и филогенетические особенности мозга, что подтверждает «принцип относительности субъекта познания к его социокуль- турному и биологическому происхождению генетической предрасположенности» [2, с. 144]. Это заставляет рассматривать ментальные особенности художественно-когнитивной практики в качестве ещё одного аргумента в пользу существования, по выражению Хичкока, «эффекта Льва Кулешова» в киноискусстве, обозначающего зависимость восприятия вещи от фона её представления [22], а также заключения К. Лоренца об активности подсознания в способности человека адекватно понимать только низшие формы структур, предшествующих нашим собственным формам мышления и восприятия [2, с. 146; 23].
-
1. Бажанов В. А . Дилемма психологизма и антипсихологизма // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 1. С. 6—16.
-
2. Бажанов В. А . Современная культурная нейронаука и природа субъекта познания: логикоэпистемологические измерения // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLV, № 3. С. 133—149.
-
3. Трансдисциплинарность в философии и науке: проблемы, подходы и перспективы. М. : Навигатор, 2015. 564 с.
-
4. Адорно Т . Эстетическая теория. М. : Республика, 2002. 527 с.
-
5. Микешина Л. А . Размышления о субъекте неклассической эпистемологии // Вестн. Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2015. № 1. С. 6—12.
-
6. Фаликман М. В., Коул М . «Культурная революция» в когнитивной науке: от нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта // Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10, № 3. С. 4—18.
-
7. Бескова И. А., Князева Е. Н . Природа и образы телесности. М. : Прогресс-традиция, 2011. 410 с.
-
8. Петров В. О . Музыкальное произведение XX века: социальные ориентиры композитора // Материалы ХIII Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Т. III. М. : Изд-во МГУ, 2006. С. 25—32.
-
9. Евин И. А., Кобляков А. А., Савриков Д. В., Шувалов Н. Д . Когнитивные сети // Компьютерные исследования и моделирование. 2011. Т. 3, № 3. С. 231—239.
-
10. Bak P . How Nature works. N. Y. : Copernicus, 1997. 212 р.
-
11. Евин И. А . Искусство и синергетика. М. : Либро-ком, 2008. 312 с.
-
12. Цветус-Сальхова Т. Э . «Тело» и «телесность» в культурологических исследованиях // Вестн. Томского гос. ун-та. 2011. № 351. С. 70—73.
-
13. Фаликман М. В . Когнитивная наука в XXI веке: организм, социум, культура // Психологический журн. Московского ун-та природы, общества и человека «Дубна». 2012. № 3. С. 31—37.
-
14. Cartwright J . Evolution and Human Behaviour. Houndmills: MacMillan, 2000.
-
15. Марютина Т. М . Нейроконструктивизм — новая парадигма возрастной психофизиологии? // Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 4. С. 132—143.
-
16. Sirios S., Spratling M., Johnson M., Thomas M., Westermann G., Marshall D. Precis of neuroconstructivism: how the brainconstructs cognition // Behavioral and Brain Sciences. 2008. Vol. 31[3]. P. 321—331; discussion 331—356.
-
17. Кривцун О . Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряжений // Вопр. философии. 2005. С. 50—62.
-
18. Зедльмайр Г . Искусство и истина. Теория и метод истории искусства / пер. Ю. Н. Попова. СПб., 2000. 272 с.
-
19. Волконский А . Основы темперации. М. : Композитор, 2003. 91 с.
-
20. Neubaer E . Music in the Islamic environment // History of civilizations of Central Asia, ed. by C. E. Bosworth and M. S. Asimov. Vol. 4, part 2. Delhi, 2003. P. 591—604.
-
21. Han S., Ma Y . Cultural differencesin human brain activity: a quantitative meta-analysis // Neuroimage. 2014. Vol. 99. Р. 293—300.
-
22. Трюффо Ф . Кинематограф по Хичкоку. М. : Эйзенштейн-центр, 1996. 77 с.
-
23. Лоренц К . Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание / отв. ред. д. ф. н. И. П. Меркулов. М. : Языки русской культуры, 2001. С. 23—35.
Список литературы Нейронаучные особенности художественного познания: эпистемологический аспект
- Бажанов В. А. Дилемма психологизма и антипсихологизма//Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 1. С. 6-16.
- Бажанов В. А. Современная культурная нейро-наука и природа субъекта познания: логико-эпистемологические измерения//Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLV, № 3. С. 133-149.
- Трансдисциплинарность в философии и науке: проблемы, подходы и перспективы. М.: Навигатор, 2015. 564 с.
- Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2002. 527 с.
- Микешина Л. А. Размышления о субъекте неклассической эпистемологии//Вестн. Вятского гос. гуманитарного ун-та. 2015. № 1. С. 6-12.
- Фаликман М. В., Коул М. «Культурная революция» в когнитивной науке: от нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта//Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10, № 3. С. 4-18.
- Бескова И. А., Князева Е. Н. Природа и образы телесности. М.: Прогресс-традиция, 2011. 410 с.
- Петров В. О. Музыкальное произведение XX века: социальные ориентиры композитора//Материалы ХШ Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Т. III. М.: Изд-во МГУ, 2006. С. 25-32.
- Евин И. А., Кобляков А. А., Савриков Д. В., Шувалов Н. Д. Когнитивные сети//Компьютерные исследования и моделирование. 2011. Т. 3, № 3. С. 231-239.
- Bak P. How Nature works. N. Y.: Copernicus, 1997. 212 р.
- Евин И. А. Искусство и синергетика. М.: Либроком, 2008. 312 с.
- Цветус-Сальхова Т. Э. «Тело» и «телесность» в культурологических исследованиях//Вестн. Томского гос. ун-та. 2011. № 351. С. 70-73.
- Фаликман М. В. Когнитивная наука в XXI веке: организм, социум, культура//Психологический журн. Московского ун-та природы, общества и человека «Дубна». 2012. № 3. С. 31-37.
- Cartwright J. Evolution and Human Behaviour. Houndmills: MacMillan, 2000.
- Марютина Т. М. Нейроконструктивизм -новая парадигма возрастной психофизиологии?//Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 4. С. 132-143.
- Sirios S., Spratling M., Johnson M., Thomas M., Westermann G., Marshall D. Precis of neuroconstructivism: how the brainconstructs cognition//Behavioral and Brain Sciences. 2008. Vol. 31. P. 321-331; discussion 331-356.
- Кривцун О. Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряжений//Вопр. философии. 2005. С. 50-62.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства/пер. Ю. Н. Попова. СПб., 2000. 272 с.
- Волконский А. Основы темперации. М.: Композитор, 2003. 91 с.
- Neubaer E. Music in the Islamic environment//History of civilizations of Central Asia, ed. by C. E. Bosworth and M. S. Asimov. Vol. 4, part 2. Delhi, 2003. P. 591-604.
- Han S., Ma Y. Cultural differencesin human brain activity: a quantitative meta-analysis//Neuroimage. 2014. Vol. 99. Р. 293-300.
- Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: Эйзенштейн-центр, 1996. 77 с.
- Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии//Эволюция. Язык. Познание/отв. ред. д. ф. н. И. П. Меркулов. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 23-35.