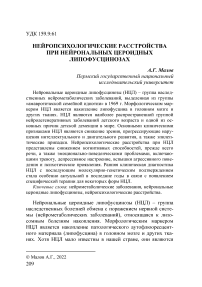Нейропсихологические расстройства при нейрональных цероидных липофусцинозах
Автор: Малов А.Г.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Психологические исследования
Статья в выпуске: 1 (6), 2022 года.
Бесплатный доступ
Нейрональные цероидные липофусцинозы (НЦЛ) - группа наследственных нейрометаболических заболеваний, выделенная из группы «амавротической семейной идиотии» в 1969 г. Морфологическим маркером НЦЛ является накопление липофусцина в головном мозге и других тканях. НЦЛ являются наиболее распространенной группой нейродегенеративных заболеваний детского возраста и одной из основных причин детской деменции в мире. Основными клиническими признаками НЦЛ являются снижение зрения, прогрессирующие нарушения интеллектуального и двигательного развития, а также эпилептические припадки. Нейропсихологические расстройства при НЦЛ представлены снижением когнитивных способностей, прежде всего речи, а также эмоционально-поведенческими проблемами, включающими тревогу, депрессивное настроение, вспышки агрессивного поведения и психотические проявления. Ранняя клиническая диагностика НЦЛ с последующим молекулярно-генетическим подтверждением стала особенно актуальной в последние годы в связи с появлением специфической терапии для некоторых форм НЦЛ.
Нейрометаболические заболевания, нейрональные цероидные липофусцинозы, нейропсихологические расстройства
Короткий адрес: https://sciup.org/147240002
IDR: 147240002 | УДК: 159.9:61
Текст научной статьи Нейропсихологические расстройства при нейрональных цероидных липофусцинозах
наиболее распространенной группой нейродегенеративных заболеваний детского возраста и одной из основных причин детской деменции во всем мире. Суммарная частота встречаемости всех форм НЦЛ составляет 1:25 000 [1]. Ранняя клиническая диагностика НЦЛ с последующим молекулярно-генетическим подтверждением стала особенно актуальной в последние годы в связи с появлением специфической терапии для некоторых форм НЦЛ [1].
В самостоятельную нозологическую форму НЦЛ были выделены из группы «амавротической семейной идиотии» (АСИ) в 1969 г. В группу АСИ еще в 1896 г. Bernard Sachs предложил объединить заболевания, характеризующиеся ранним дебютом, прогрессирующей утратой зрения (греч. аmauros – «темный, слепой»), психомоторных навыков и ранним неблагоприятным исходом. Наиболее известным представителем этой группы является амавротическая идиотия Тея-Сакса (современное название – GM2-ганглиозидоз), названое в честь английского офтальмолога Waren Tay и американского невролога Bernard Sachs. W. Tay в 1881 г. впервые описал красное пятно (так называемую «вишневую косточку») на сетчатке глаза больных детей, а B. Sachs в 1887 г. дал более полное описание болезни, и отметил, что она чаще встречается у евреев-ашкенази из Восточной Европы.
Основными клиническими признаками НЦЛ являются снижение зрения, прогрессирующие нарушения интеллектуального и двигательного развития, а также эпилептические припадки, резистентные к антиконвульсантам, с которых чаще всего и дебютирует болезнь. Однако возраст дебюта, выраженность тех или иных синдромов и скорость прогрессирования существенно различается при разных типах НЦЛ. Всего выделяют 10 типов НЦЛ, но наиболее распространенные и хорошо изученные – НЦЛ 1, 2 и 3 типов, имеющие аутосомно-рецессивный тип наследования [2]. НЦЛ 1 типа (болезнь Сантавуори-Халтиа) обусловлен мутациями в гене CLN1 и чаще представлен младенческой формой. НЦЛ 2 типа (болезнь Янского-Бильшовского) связан с мутациями в гене CLN2 и является основным представителем поздней младенческой формы с дебютом в возрасте 2–4 лет. НЦЛ 3 типа (болезнь Шпильмейера– 210
Вогта–Шъегрена–Баттена) возникает вследствие мутаций в гене CLN3 и проявляется классической юношеской («ювенильной») формой с дебютом в возрасте 4–9 лет.
Нейропсихологические расстройства при НЦЛ представлены снижением когнитивных способностей вследствие нарушения высших корковых функций, прежде всего речи, а также эмоционально-поведенческими проблемами. Наличие когнитивных нарушений являются отличительной чертой НЦЛ. У детей младшего возраста потеря «школьных навыков» происходит быстро, в то время как относительно медленный темп развития заболевания, наблюдаемый у «ювенильных» пациентов, позволяет им посещать общеобразовательную школу, продолжая изучать новые факты и получать навыки даже в подростковом возрасте.
Когнитивное снижение при НЦЛ происходит в два этапа. В начале заболевания траектория развития детей замедляется, они усваивают новые знания медленнее, чем их сверстники, развивается задержка психоречевого развития, но часто показатели в течение некоторого времени остаются на нижней границе нормы. Пациенты выходят на плато, а затем начинают терять когнитивные способности, приобретенные в первые месяцы и/или годы жизни, и развивается детская деменция. Нередко только в это время дети попадают к специалистам. Однако при НЦЛ 2 задержка приобретения когнитивных навыков наблюдается на очень ранней стадии, характерен неравномерный профиль их развития, причем задержки более очевидны в области экспрессивной речи по сравнению с моторными навыками, что имеет большое значение для ранней диагностики. Так Nickel et al. [3] сообщили, что родители почти половины пациентов с НЦЛ 2 рано обращаются с жалобами на задержку овладения языком их детьми. Задержка развития речи у детей с НЦЛ 2, по-видимому, не связана с каким-либо конкретным генотипом CLN2.
Различные клинические проблемы связаны со снижением когнитивных функций при НЦЛ 3, который можно рассматривать как «амавротическую идиотию» с хроническим течением. Скорость прогрессирования заболевания, как правило, низкая, и дети могут посещать школу при наличии зрительных, интеллектуальных и поведенческих проблем. На сегодняшний день нет доказательств неравномерного профиля развития в раннем воз-211
расте и до появления нарушений зрения. Показатели нейропсихологической функции при НЦЛ 3 отличаются от показателей типично развивающихся сверстников, отражая неспособность достичь ожидаемых достижений, но заметное снижение когнитивных способностей происходит только в середине подросткового возраста, примерно в то же время, что и быстрое неврологическое ухудшение [4].
Adams H.R. et al. [5] подробно изучили нейропсихологические функции у 18 детей с НЦЛ 3 в динамике с интервалом в один год. Выявлены значительные и прогрессирующие нарушения в тестах на слуховое внимание, мнестическую и повторную речь, беглость речи и оценку вербальных интеллектуальных способностей. Выраженность нейропсихологических нарушений достоверно коррелировала с длительностью заболевания, расстройством двигательных функций, оцениваемой по клинико-неврологической рейтинговой шкале, и наличием судорожных припадков. Достоверной разницы между мужчинами и женщинами в выполнении нейропсихологических тестов не было.
Прогрессирующее вовлечение корковых нейронов приводит к апраксии с прогрессирующей утратой двигательного планирования и инициативы, а затем и двигательных навыков, представляющих собой «когнитивную основу» двигательной функции. Сочетание апраксии с мозжечковой атаксией, пирамидными спастическими парезами и экстрапирамидными расстройствами приводит к потере самостоятельной ходьбы с последующей утратой всех произвольных движений и контроля позы. Дети становятся «прикованными к инвалидному креслу», а затем и «к постели» с НЦЛ 1 в возрасте 3–5 лет, с НЦЛ2 – в 6– 12 лет (в зависимости от тяжести формы), а с НЦЛ 3 типа – к середине второго десятилетия жизни.
Эмоционально-поведенческие нарушения в начале заболевания характерны для НЦЛ 3 и, иногда, для атипичного течения НЦЛ 2, первые симптомы которых проявляются у детей школьного возраста. НЦЛ 3 является наиболее распространенным NCL в Северной Европе и США. Заболевание начинается в подростковом возрасте (школьный возраст) с нарушений зрения и поведенческих проблем, за которыми следует снижение когнитивных функций. Возникновение проблем с поведением ранее, 212
чем когнитивных, особенно характерно для мальчиков [6]. Позднее возникают двигательные нарушения и эпилепсия.
Эмоционально-поведенческие проблемы включают тревогу, депрессивное настроение, вспышки агрессивного поведения и психотические проявления. В некоторых случаях заболевание манифестирует со зрительных и слуховых галлюцинаций с развитием параноидального делирия. Эти симптомы, как правило, остаются стабильными или даже ухудшаются в первые годы после начала заболевания, но становятся менее выраженными по мере прогрессирования заболевания и утраты когнитивных способностей. Они представляют серьезную проблему для тех пациентов (а также их семей и лиц, осуществляющих уход), у которых ожидается медленное течение заболевания и более длительная выживаемость [6], и, по-видимому, они также не связаны с определенным генотипом [7].
Эволюция симптоматики при НЦЛ 3 происходит гораздо медленнее, чем при других формах, и смерть может наступить на четвертом или даже шестом десятилетии жизни, если поражение сердца не приводит к преждевременной смерти. У женщин заболевание протекает более тяжело [8].
Как уже говорилось в начале, ранняя клиническая, в том числе нейропсихологическая, диагностика НЦЛ важна в связи с тем, что генозаместительная или ферментозаместительная терапия становится доступной для некоторых форм НЦЛ [1]. С 2017 г. для лечения НЦЛ 2 доступен рекомбинантный лизосомальный фермент церлипоназа альфа, заменяющий неэффективный генный продукт. Фермент вводят непосредственно в головной мозг через внутрижелудочковый катетер каждые 2 недели. Безопасность этого подхода показана группой экспертов [9]. Эффективность лечения доказана тем, что прогрессирование заболевания замедляется в течение 4-летнего периода по сравнению с контрольной группой, ранее не получавшей лечения [10].
Таким образом, знание особенностей нейропсихологических расстройств при нейрональных цероидных липофусцинозах, которые являются одной из основных причин детской деменции в мире, дает возможность рано заподозрить это заболевание, провести молекулярно-генетическое подтверждение и назначить адекватную патогенетическую терапию.
Perm State University
Список литературы Нейропсихологические расстройства при нейрональных цероидных липофусцинозах
- Simonati A., Williams R.E. Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: The Multifaceted Approach to the Clinical Issues, an Overview // Frontiers in Neurology. Vol. 13. URL: https://www.frontiersin.org/articles//full (accessed: 16.05.2022).
- Михайлова С.В., Захарова Е.Ю., Петрухин А.С. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: диагностика и подходы к лечению. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Литтерра, 2019. 368 с.
- Nickel M., Simonati A., Jacoby D., Lezius S. et al. Disease characteristics and progression in patients with late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2) disease: an observational cohort study // The Lancet Child & Adolescent Health. 2018. Vol. 2, iss. 8. P. 582590.
- Adams H.R., Mink J. W. Neurobehavioral features and natural history of juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (Batten disease) // Journal of Child Neurology. 2013. Vol. 28, iss. 9. P. 1128-1136.
- Adams H.R., Kwon J., Marshall F.J., Blieck E.A. de, Pearce D.A., Mink J. W. Neuropsychological symptoms of juvenile-onset batten disease: experiences from 2 studies // Journal of Child Neurology. 2007. Vol. 22, iss. 5. P. 621-627.
- Ostergaard J.R. Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (Batten disease): current insights // Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease. 2016. Vol. 6. P. 73-83.
- Adams H.R., Beck C.A., Levy E., Jordan R. et al. Genotype does not predict severity of behavioural phenotype in juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (Batten disease) // Developmental Medicine & Child Neurology. 2010. Vol. 52, iss. 7. P. 637-643.
- Cialone J., Adams H.R., Augustine E.F., Marshall F.J. et al. Females experience a more severe disease course in Batten disease // Journal of Inherited Metabolic Disease. 2012. Vol. 35, iss. 3. P. 549-555.
- Schwering C., Kammler G., Wibbeler E., Christner M. et al. Development of the "Hamburg best practice guidelines for ICV-enzyme replacement therapy (ERT) in CLN2 disease" based on 6 years treatment experience in 48 patients // Journal of Child Neurology. 2021. Vol. 36, iss. 8. P. 635-641.
- Kohlschutter A., Schulz A., Bartsch U., Storch S. Current and emerging treatment strategies for neuronal ceroid lipofuscinosis // CNS Drugs. 2019. Vol. 33, iss. 4. P. 315-325.