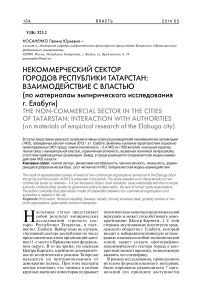Некоммерческий сектор городов Республики Татарстан: взаимодействие с властью (по материалам эмпирического исследования г. Елабуги)
Автор: Носаненко Галина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен результат репрезентативных опросов руководителей некоммерческих организаций (НКО), проведенных весной-осенью 2013 г. в г. Елабуге. Выявлены основные характеристики социально ориентированных НКО города: немногочисленность - 0,4 НКО на 1 000 жителей, локальный характер, тесная связь с муниципальной властью, ограниченная активность, вызванная политикой патернализма, отсутствие правозащитных организаций. Вывод: в городе реализуется патерналистская модель взаимодействия НКО и власти.
"третий сектор", финансовая нестабильность, малочисленность, локальность, формирующаяся добровольческая база, рост численности нко, патерналистская модель взаимодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/170167447
IDR: 170167447
Текст научной статьи Некоммерческий сектор городов Республики Татарстан: взаимодействие с властью (по материалам эмпирического исследования г. Елабуги)
Настоящая статья представляет собой результат эмпирических исследований «третьего сектора» Республики Татарстан, в частности г. Елабуги. Выбор темы не случаен. «Активный сектор» республики по числу представленных в нем организаций занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе. В то же время, по оценкам Центра Карнеги, в рейтинге демократии -ности политического режима Татарстан находится на противоположном от демократии полюсе. При этом эксперты центра отмечают, что «приход в регион крупных внешних инвесторов подрывает политическую монополию региональной верхушки и может способствовать демократизации» [Центр Карнеги...]. С этой стороны исследование институтов гражданского общества г. Елабуги, который входит в набережночелнинскую агломерацию и является особой экономической зоной, может создать «фотографию» некоммерческого сектора города в конкретный момент времени, позволяющую выявить его специфику.
В рамках исследования, проведенного методом формализованного интервью, были опрошены руководители 7 организаций (по принципу доступности)
из 15 зарегистрированных елабужских социально ориентированных НКО (за исключением профсоюзов, образовательных учреждений и религиозных организаций). [Негосударственные… 2007]. За основу был взят вопросник НИУ ВШЭ.
Гипотеза исследования: в Елабуге коммуникация между «третьим сектором» и властью практически не выстроена; тип их взаимодействия соответствует первым двум ступеням «лестницы гражданского участия» Шерри Р. Арнштейн.
В качестве методологической основы исследования был применен синтез подходов. Системный подход обеспечил целостное восприятие сферы гражданского общества в контексте всех его взаимодействий, позволил определить место и назначение НКО на «входе» и «выходе» политической системы. Институциональный подход показал, каким образом формируются и функционируют отдельные элементы «третьего сектора», а также выделил задачи НКО на «входе»: привлечение материальных и человеческих ресурсов в организацию ( input ); переработка – переделка ресурсов в продукты или услуги ( throughput ); распределение – продвижение полученных продуктов и услуг конечному потребителю через механику обмена ( output ) [Новаторов 2013]. В рамках институционального подхода были рассмотрены существующие модели взаимодействия «активного сектора» и власти: квази-советская, инновационная, мутантная; нормативная, легитимационная, инструментальная [Сунгуров 2008]; межсекторное партнерство и патрон-клиентская модель [Горный 2007]. Выделены различные методы их взаимодействия «на входе» и «на выходе» системы [Нездюров 2001], т.е. произведен анализ самих институтов. Новый институциональный подход, определяя институт как «сознательно или неосознанно созданные людьми ограничения поведения, призванные обеспечить порядок в социальных отношениях» [Анализ … 2006: 151], позволил рассмотреть его содержательную сторону.
В целом, при оценке степени вовлеченности НКО в политический процесс водораздел проходил между полюсами участия и неучастия, для измерения которых применялась 8-ступенчатая лестница типов гражданского участия Ш.Р. Арнштайн с 3 группами уровней: неучастие, степени имитации участия, степени гражданской власти [Яргомская и др.].
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан, по состоянию на 1 января 2012 г. в Елабужском муниципальном районе (ЕМС) было зарегистрировано 33 СО НКО, в самом городе – 29. Таким образом, на 1 000 чел. приходилось 0,4 НКО (в среднем по РТ эта цифра составляет 1,4). Почти каждая третья некоммерческая организация (57%) была образована в 90-х гг. прошлого века и ранее. Это Координационный совет председателей профкомов, Всероссийское общество слепых и др. – так называемые традиционные, или квазисоветские, организации. 14% НКО, появившихся в период с 1991 по 1995 г., в основном представляли интересы воинов-афганцев, активно боровшихся за свои социальные права. Абсолютное большинство организаций (75%) возникли в период с 2005 по 2012 г., их них 2/3 составили религиозные объединения.
Большинство руководителей отметили, что их организации являются частью гражданского общества («безусловно является»/«скорее является» – 29/29%). 43% руководителей заявили, что целью их организации является влияние на решение органов власти и они добились результатов в ее достижении. При этом 43% такую цель не преследовали, а 14% затруднились ответить; 43% подтвердили, что цель их организации – влияние на действия граждан и они добились ее, однако 28% руководителей не ставили перед своими организациями такой цели, а 29% затруднились ответить; 43% были уверены, что им удалось сформировать общественное мнение по обсуждаемой проблеме, 14% руководителей отметили, что сформировать общественное мнение не удалось, еще 14% не ставили такую цель, а 29% затруднились ответить.
Однако многие руководители СО НКО подтвердили противоположную позицию, отметив, что они не ставили перед своей организацией таких целей, как обеспечение открытости и прозрачности власти (43%); вовлечение общественности в непосредственную реализацию решений власти (29%); влияние на действия граждан и организаций по обсуждаемой проблеме (14%); влияние на решения органов власти (14%).
На вопрос о целях взаимодействия органов власти и общественности каждый десятый руководитель СО НКО (10%) заявил, что «третий сектор» должен помогать населению в его конфликтах с государственными и муниципальными органами; еще 10% отметили, что он может и должен брать на себя решение тех задач, на которые у государства не хватает финансовых ресурсов; каждый пятый руководитель (20%) посчитал, что некоммерческий сектор должен помогать государственным и муниципальным органам власти в их работе с населением; еще 40% высказали мнение, что такое взаимодействие должно быть партнерским, направленным на совместное решение проблем.
Наиболее тесные контакты «активного сектора» были установлены с органами местного самоуправления: 86% руководителей ответили, что взаимодействуют с местной властью часто, из них 57% подтвердили, что «скорее довольны» совместной работой, 43% – «скорее недовольны». Взаимодействие с региональной властью было оценено как «скорее частое» (43%), остались «скорее довольны» им 57% респондентов, 29% остались «скорее недовольны», 14% затруднились ответить. «Безусловно, не часто» взаимодействуют СО НКО с федеральными органами власти – 43% (57% затруднились ответить), из них «скорее довольны» сотрудничеством 43%, «скорее недовольны» – 14%, затруднились ответить – 43%.
На «входе» в систему наиболее распространенными формами взаимодействия «третьего сектора» с властью стали общественные слушания, пропаганда деятельности организации, отдельные публикации в СМИ, предоставление и получение информации и различной методической помощи, встречи на конференциях и семинарах, совместное участие в координационных советах. На «выходе» – льготные условия аренды помещений, информационная поддержка, участие в конкурсах региональных грантов, совместные мероприятия.
Одним из сдерживающих факторов активного взаимодействия стала внутренняя слабость сектора: большинство
НКО (57%) не имеют штатных сотрудников или являются малочисленными: 29% организаций имеют в штате от 1 до 5 чел. и только 14% – более 30. В работе почти каждой третьей организации (29%) не участвуют добровольцы.
В качестве основной проблемы руководители каждой третьей организации (29%) отметили недостаток материальных средств и, соответственно, высказали надежду на помощь в решении этого вопроса со стороны местных (городских) властей – 56%; властей РТ – 11%; федеральных властей – 11%; со стороны российских коммерческих структур и бизнеса – 22%. При этом выразили готовность в обмен на материальную поддержку со стороны власти выполнять следующие ее требования: не участвовать в коррупции, не уклоняться от уплаты налогов, не прикрывать недобросовестный бизнес – 9%; вести высокоэффективную деятельность – 18%; предоставлять подробную и достоверную отчетность – 27%; строго выполнять законы – 36%.
Таким образом, относя свои организации к институтам гражданского общества, большинство руководителей СО НКО не противопоставляют их органам власти. В городе доминирует легитима-ционная модель взаимодействия, действующая на местном уровне, с преимущественно формальным участием СО НКО, имеющих слабую финансовую базу и поэтому ориентированных не на собственные силы, а на поддержку извне, предоставляемую в основном местными властями. Большинство СО НКО города являются традиционными. По шкале Ш.Р. Арнштейн они могут быть оценены как находящиеся на 2-й ступени информирования и консультации, что соответствует также патрон-клиентской модели.
При этом появляются организации, получающие региональные гранты (22%) и способные привлекать дополнительные ресурсы: финансовые, добровольческие, интеллектуальные, что является признаком зарождающейся инструментальной модели. При определенной информационной и финансовой поддержке эти СО НКО в будущем способны взять на себя функции по эффективному решению социальных проблем.