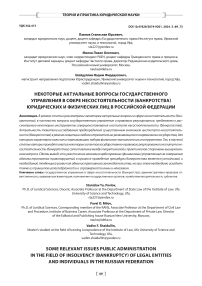Некоторые актуальные вопросы государственного управления в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц в Российской Федерации
Автор: Павлов С.Ю., Милов П.О., Шайдуллин В.Ф.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (78), 2024 года.
Бесплатный доступ
В рамках статьи рассмотрены некоторые актуальные вопросы в сфере несостоятельности (банкротства), в частности вопросы государственного управления и правового регулирования, предложены к рассмотрению некоторые инструменты совершенстовования института несостоятельности (банкротства). Актуальность тематики исследования предопределена существенным значением института несостоятельности (банкротства) в рамках концепции любого стремительно развивающегося современного государства, для которого характерно наличие исчерпывающего набора финансово-экономических инструментов. Так, в научной статье авторы проводят анализ некоторых аспектов государственно-правового регулирования института несостоятельности (банкротства), сопоставление между теоретической и практической сторонами вышеуказанного вопроса. Сделан вывод, что ужесточение наказания арбитражных (финансовых) управляющих за совершение административных правонарушений в процессе проведения процедуры банкротства является устойчивой и необходимой тенденцией развития административного законодательства, но при этом необходимо исходить также из принципов целесообразности и соразмерности вины и наказания.
Государственное управление в сфере несостоятельности (банкротства), административно-правовая ответственность, правовая регламентация, полномочия государственных органов, хозяйственная деятельность субъектов
Короткий адрес: https://sciup.org/14131145
IDR: 14131145 | УДК: 342.415 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_3_69_73
Текст научной статьи Некоторые актуальные вопросы государственного управления в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц в Российской Федерации
В настоящее время тематика научно-исследовательских работ в направлении совершенствования института несостоятельности (банкротства) представляется весьма актуальной и обуславливается уровнем экономической нестабильности и особой изменчивостью среды бизнеса вследствие финансово-экономических кризисов, глобальных политических преобразований, оказывающих негативное влияние на критерий юридической ригидности физических и юридических лиц.
Согласно официальным статистическим сведениям, число корпоративных банкротств в России в первом квартале 2024 года увеличилось до 2094 (рост на 53 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) [11]. Прирост корпоративного банкротства наблюдается на фоне снижения эффекта действовавшего c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников. Среди практикующих юристов ожидается, что эффект моратория уже исчерпан, и в 2024 году стоит ожидать устойчивого роста несостоятельных компаний.
Полагаем, что состояние финасово-правового сектора несостоятельности (банкротства) определяется не только внешними факторами, но и поведением участников экономических правоотношений. Исходя из этого законодателем предпринимаются меры, направленные на укрепление механизма государственного контроля в рамках банкротных процедур. Как справедливо указывает В.С. Белых, примечательным является то обстоятельство, что в банкротстве должников отдельных категорий законом предусмотрено участие органов государственной власти, привлекаемых к участию в деле в связи с наличием у них компетенции в сфере, связанной с деятельностью или статусом должника [7, с. 18].
Считаем необходимым проанализировать механизм реализации данными органами государственно-властных полномочий в рассматриваемой сфере, а именно формы и способы, посредством которых государство в лице упомянутых органов осуществляет государственное управление. Безусловно, необходимо регулирование правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства) на основе дальнейшего совершенствования нормативной базы, чтобы институт банкротства являлся максимально законным, эффективным и понятным, позволяющим достичь сбалансированного подхода при применении к должникам реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве, сохранять имущественную массу и добиваться максимизации стоимости активов должника, повышать эффективность защиты прав социальных категорий кредиторов и достигать иных целей, поставленных государством в данной сфере.
Одним из способов оптимизации правового регулирования выступает доработка имеющейся нормативно-правовой регламентации соответствующих правоотношений. Исходя из этого достаточно закономерным обстоятельством является то, что недавно санкция ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [3] (далее – КоАП РФ) была дополнена предупреждением в качестве вида меры ответственности, в то время как дисквалификация из санкции была исключена. С одной стороны, смягчение санкции ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ является отражением практики арбитражных судов, нередко выносивших арбитражному управляющему предупреждение вместо предусмотренных штрафа или дисквалификации.
Следовательно, может сложиться следующая ситуация: арбитражному управляющему в рамках одного дела о банкротстве было вынесено предупреждение, а затем, в течение года, было выявлено нарушение в рамках другого дела о банкротстве.
Исходя из положений ст. 4.6 КоАП РФ данный арбитражный управляющий будет считается подвергнутым административному наказанию. Причем нарушения могут носить разный характер, иметь место в разных делах о несостоятельности, не иметь высокой степени общественной опасности, однако данные обстоятельства, судя по изменениям в ст. 14.13 КоАП РФ, не учтены законодателем, что может привести к дисквалификации арбитражного управляющего, который даже не был ранее подвергнут наказанию в виде штрафа.
Думается, такого рода меры не являются соразмерными и могут привести к чрезмерному ужесточению ответственности арбитражных управляющих даже при небольшой общественной опасности совершенных правонарушений (например, нарушение срока опубликования сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, нарушение порядка ведения реестра требований кредиторов технического характера). Аналогичная позиция нашла свое отражение в трудах О.А. Зайцева, Р.Т. Мифтахут-диновой, А.Е. Юхниной, С.К. Карелиной [8, с. 25].
Банкротство юридических лиц имеет иную правовую природу и отличается от банкротства граждан тем, что преследует цели пропорционального удовлетворения требования кредиторов или восстановления платежеспособности должника. Кроме того, целью процедуры банкротства юридических лиц не является последующее освобождение от долгов.
Дела о банкротстве юридических лиц предусматривают больший размер вознаграждения, круг участников, объем конкурсной массы, историю и разнообразие хозяйственных операций, как следствие, они предполагают наличие более высокой квалификации и большего опыта арбитражных управляющих. Подход по ужесточению мер наказаний для арбитражных управляющих в сфере банкротства юридических лиц преследует цель предупреждения последствий незначительных, но последовательно повторяющихся правонарушений, которые могут привести к накоплению существенного отрицательного экономического эффекта, и является оправданным.
Однако данный подход не может быть применен по аналогии к деятельности финансовых управляющих физических лиц и приводит к искусственному ограничению появления новых профессиональных участников института банкротства.
Другим основанием, демотивирующим финансовых управляющих участвовать в делах о банкротстве граждан, как указывает К.С. Кузнецов, является низкий размер фиксированной части вознаграждения финансового управляющего [9, с. 27]. Полагаем, что в настоящее время он достаточно низок и равен 25 тыс. руб. за процедуру, и это с учетом предпринятых мер по его увеличению.
Очевидно, что размер фиксированной части вознаграждения финансового управляющего не является существенным и не может стимулировать лиц к получению статуса арбитражного управляющего для осуществления деятельности в сфере банкротства физических лиц [10]. Одновременно с этим высокий уровень конкуренции в сфере банкротства юри- дических лиц со стороны более опытных арбитражных управляющих ограничивает их в выборе стартовой площадки для начала ведения деятельности. Тем самым в условиях высокого порога входа арбитражных управляющих в сферу банкротства юридических лиц, большего размера вознаграждения арбитражных управляющих в сфере банкротства юридических лиц к арбитражным управляющим в сфере банкротства физических лиц при меньшем размере вознаграждения предъявляются те же квалификационные требования, а также равные меры ответственности. Безальтернативность санкции ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ привела к закономерному недовольству профессионального банкротного сообщества и обширной полемике, затрагивающей, в частности, чрезмерный формализм и ставящей под сомнение конституционность данной нормы.
Отметим еще один важный аспект, касающийся ситуации банкротства и самой возможности определения наличия активов, в частности в цифровом виде. Это выглядит важным с позиции того, что цифровое общество становится все большей реальностью, а недобросовестный гражданин или организация может попробовать скрыть свои реальные активы, переведя их в цифровую форму.
С учетом того, что в России увеличивается число владельцев криптовалюты, которая не признана официальным средством расчетов в национальной финансовой системе, но при этом является по своей сути активом должника, имеющим свою цену реализации, арбитражные суды все чаще сталкиваются с проблемой его применения в делах о банкротстве граждан. Впервые вопрос о криптовалюте в научном сообществе и среди практикующих специалистов был озвучен в 2017 году, когда биткоин резко подорожал. Учитывая ценность нового актива, законодатель был вынужден сделать шаги в области формирования правовых основ для криптовалютного оборота в России.
На сегодняшний день в банкротстве цифровая валюта отнесена к имущественным активам, на что указано в ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127) [3]. Должник обязан сообщать о наличии токенов, криптовалюты и иных цифровых активов. Введенные в 2020 году законодательные поправки стали важными для судебной практики, так как ранее неоднократно фиксировались споры по этому поводу и различные позиции судов.
Например, в деле № А40-124668/2017 [6] у должника Царькова И.И. был кошелек с криптовалютой в системе blockchain.info. Должник не отрицал наличие у него цифровых активов – 0,2 биткоина. Финансовый управляющий потребовал доступа к криптокошельку, но должник заявил, что виртуальные валюты нельзя считать имуществом. Суд первой ин- станции встал на сторону должника, руководствуясь тем, что криптовалюта не относится к объектам гражданских прав.
Апелляционный суд поддержал финансового управляющего, расценивая криптовалюту применительно к ст. 128 Гражданского кодекса Россиской Федерации [2] как иное имущество, которое имеет цену и должно быть внесено в конкурсную массу, и обязал должника предоставить доступ к криптокошельку [5]. Тем не менее в итоге дело завершилось без расчетов с кредиторами, так как продать криптовалюту не смогли. Должник ничего не скрывал в процессе процедуры банкротства, поэтому его долги списали полностью.
Важно отметить, что, несмотря на анонимность криптовалюты, за последние годы рынок изменился. Криптовалютные биржи, на которых проводятся торговые операции, требуют верификации личности. Когда гражданин выводит средства после продажи криптовалюты на карт-счет, его операции фиксируются кредитными организациями.
При банкротстве гражданина в обязанности финансового управляющего входит проверка счетов должника. Но проверять счета могут и кредиторы, и если у гражданина существенный долг, то банки будут внимательней к его сделкам и активам. Например, криптовалютные операции могут быть обнаружены следующим образом. Финансовый управляющий проверяет выписку, анализирует крупные операции по выводу и зачислению денег, отслеживает их источники и получателей; затем подает запрос на криптовалютную биржу. Учитывая, что аккаунты проходят верификацию, установить личность владельца криптовалюты будет несложно. Также финансовый управляющий выясняет стоимость активов на аккаунте должника и ходатайствует об их включении в конкурсную массу.
Вместе с тем у финансового управляющего могут возникнут сложности со входом в аккаунт владельца кошелька, тогда управляющий вправе потребовать присутствия должника при операции. Но всё это возможно только в случае, если финансового управляющего назначили по предложению кредито- ра. На практике по своей собственной инициативе финансовые управляющие крайне редко занимаются криптовалютными счетами. Возможно, что внесенные законодательные изменения о признании криптовалюты имуществом изменят ситуацию ее редкого внесения в конкурсную массу должника.
Следует признать, что внесение изменений в Закон № 127-ФЗ хотя и сняло спорный вопрос об отнесении криптовалюты к иному имуществу должника, которое должно быть учтено в ходе реализации банкротных процедур, но оставило значительные вопросы по инструментам поиска, отслеживания и вывода цифровых активов для их включения в конкурсную массу. Поэтому с позиции ответственности финансового управляющего за правильность и полноту определения активов должника ситуация остается по-прежнему достаточно острой ввиду отсутствия у многих специалистов необходимых знаний и умений в области цифровых технологий, а привлечение экспертов в этой области влечет дополнительные расходы и временные затраты.
Таким образом, несостоятельность (банкротство) является важным элементом экономики, выступает необходимым инструментом регулирования рынка, а также законным способом ухода с рынка неэффективных участников. Ужесточение наказания арбитражных (финансовых) управляющих за совершение административных правонарушений в процессе проведения процедуры банкротства является устойчивой и необходимой тенденцией развития административного законодательства. Вместе с тем в научной и правовой среде обсуждаются проблемные аспекты в данной области, а сами современные новеллы законодательства Российской Федерации, принятые за последние годы, носят неоднозначный и спорный характер. Полагаем, что в ситуации ужесточения ответственности арбитражного (финансового) управляющего за неисполнение/ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей при ведении процедуры банкротства необходимо исходить также из принципов целесообразности и соразмерности вины и наказания.
Список литературы Некоторые актуальные вопросы государственного управления в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц в Российской Федерации
- The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // Ocial Internet portal of Legal Information [Electronic resource]. Available at: http://www.pravo.gov.ru/ (accessed: 31.03.2024). (In Russian).
- Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated of 30.11.1994 M 51-FZ (as amended on 11.03.2024) // Collection of Legislation of the Russian Federation, 1994, M 32, Art. 3301. (In Russian).
- Code of the Russian Federation on Administrative Oenses dated 30.12.2001 M195-FZ (as amended on 22.04.2024)//Collection of Legislation of the Russian Federation, 2002, M 1 (part I), Art. 1. (In Russian).
- Federal Law of 26.10.2002 M 127-FZ “On Insolvency (Bankruptcy)” (date of application: 26.12.2023) // Collection of Legislation of the Russian Federation, 2002, M 43, Art. 4190. (In Russian).
- Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated of 15.05.2018 M09AP-16416/2018 // Information system Electronic Justice [Electronic resource]. Available at: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-478abb76-1146d2e61a4a/58af451a-bfa3-4723-ab0d-d149aafecd88/A40-124668-2017_20180515_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (accessed: 02.05.2024). (In Russian).
- Determination of the Moscow Arbitration Court dated of 24.10.2017 in case MA40-124668/2017 // IS Electronic Justice [Electronic resource]. Available at: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a/fbc7c350-cf95-4bb9-8d28-2ea7d7b9415b/A40-124668-2017_20180907_Opredelenie. pdf?isAddStamp=True (accessed: 02.05.2024). (InRussian).
- Belykh V.S. Institute of insolvency (bankruptcy) in modern Russia and certain foreign countries // Business, Management and Law, 2020, M 3 (47), pp. 16-22. (In Russian).
- Zaitsev O.A., Miftakhutdinov R.T., Yukhnin A.E., Karelina S.K. Extrajudicial bankruptcy // Law, 2020, M 9 (5), pp. 21-38. (In Russian).
- Kuznetsov K.S. Bankruptcy of individuals: aspects of the bankruptcy procedure. // Interactive science, 2023, M 2 (78), pp. 25-29. (In Russian).
- Miftakhutdinov R.T., Shaidullin A.I. Downgrading (subordination) of claims of controlling debtors or persons aliated with them in Russian bankruptcy law. // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation, 2020, M9(3), pp. 130-136. (In Russian).
- “Fedresurs”: the number of company bankruptcies in Russia in 2024 increased by 53 % // Kommersant [Electronic resource]. Available at: https://fedresurs.ru/news/43f914b6-16-4260 - 9017-67019749289c/ (accessed: 30.04.2024). (In Russian).