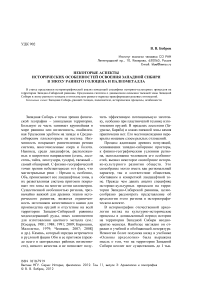Некоторые аспекты исторических особенностей освоения Западной Сибири в эпоху раннего голоцена и палеометалла
Автор: Бобров Леонид Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Культурная вариативность на археологических памятниках Урала и западной Сибири в эпоху Палеометалла
Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен историографический анализ концепций специфики историко-культурных процессов на территории Западно-Сибирской равнины. Предложена гипотеза о динамичном освоении таежной зоны Западной Сибири в эпоху раннего голоцена и относительно раннего периода трансформации родовых отношений.
Западная сибирь, ранний голоцен, палеометалл, исторические процессы, особенности
Короткий адрес: https://sciup.org/14737753
IDR: 14737753 | УДК: 902
Текст научной статьи Некоторые аспекты исторических особенностей освоения Западной Сибири в эпоху раннего голоцена и палеометалла
Западная Сибирь с точки зрения физической географии – уникальная территория. Большую ее часть занимает крупнейшая в мире равнина или низменность, окаймленная Уральским хребтом на западе и Среднесибирским плоскогорьем на востоке. Низменность покрывает разветвленная речная система, многочисленные озера и болота. Наконец, среди ландшафтов, расположенных в широтном направлении (степь, лесостепь, тайга, лесотундра, тундра), таежный – самый обширный. С физико-географической точки зрения небезынтересен тот факт, что магистральные реки – Иртыш и, особенно, Обь, пронизывают все ландшафтные зоны, а их разветвленная система притоков покрывает эти зоны на многие сотни километров. Существенной особенностью региона, чрезвычайно важной для древних этапов исторического развития, является ограниченность источников качественного камня для производства орудий и отсутствие на всей территории Западно-Сибирской равнины медесодержащей руды, иных компонентов для изготовления цветного металла (см.: [Косарев, 1981; 1984; 1991; 2009; Кирюшин, Малолетко, 1979; Чемякин, 2007; 2008] и др.). Камень, который изредка встречается в русловой фации Оби и ее притоков (прежде всего в центральных районах низменности), низкого качества и не позволяет полу- чить эффективную потенциальную заготовку, особенно при пластинчатой технике изготовления орудий. В пределах лесостепи (Зауралье, Бараба) и южно-таежной зоны камня практически нет. Его местонахождения перекрыты мощным слоем рыхлых отложений.
Процесс адаптации древних популяций, осваивавших западно-сибирские просторы, к физико-географическим условиям региона, использование человеком его особенностей, вызвал некоторое своеобразие историко-культурного развития обществ. Это своеобразие могло иметь как региональный характер, так и соответствие обществам, обитавшим в конкретной ландшафтной зоне. Прежде чем давать анализ специфике историко-культурных процессов на территории Западно-Сибирской равнины, целее-сообразно рассмотреть представление об археологии этого региона в историографическом аспекте.
В историографии отечественной археологии взгляд на культурно-исторические процессы в дописьменный период истории на территории Западной Сибири неоднократно менялся. Наиболее наглядно он отражен в учебной и обобщающей литературе. Немногим более полувека назад в учебнике «Основы археологии» была выражена мысль о том, что на территории Западной Сибири неолит мог существовать до I тыс.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография © В. В. Бобров, 2012
Это следствие пресловутой идеи о социально-экономической отсталости не только Сибири, но и в целом Азиатской части России. Она достаточно живучая и длительное время ее подпитывала слабая археологическая изученность этой обширной российской территории. Не представлена западно-сибирская археология от таежной зоны до тундры, кроме эпохи неолита, в «Истории Сибири» [1968]. Это несмотря на то, что еще в 40–50-е гг. прошлого столетия в Западно-Сибирском регионе активные исследования проводили специалисты Института археологии и, прежде всего, В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская [Чернецов, 1953]. Позже археологические работы здесь связаны с именами целой плеяды известных ученых.
Историографическая ситуация несколько изменилось в 80–90-е гг. прошлого столетия. Она была обусловлена формированием кадрового потенциала в вузах Западной Сибири, среди которых выделялась уральская группа специалистов, активно занимавшихся исследованием таежных районов. Академическим центром стал Институт археологии и этнографии СО РАН, сотрудники которого, в частности, вели изучение древностей Барабинской лесостепи. Об изменениях в археологических знаниях свидетельствуют такие издания, как «Бронзовый век лесной полосы СССР» и «Неолит Северной Евразии» из двадцатитомной серии «Археологии СССР / России». Но и в них археология Западной Сибири представлена в основном южно-таежной зоной. Более того, сегодня изложенные в них сведения не удовлетворяют современному знанию о древних культурах и эпохах в этом регионе.
Одновременно с накоплением знаний о древней и средневековой истории северных районов региона формировалась концепция о неравномерности исторического развития и о более прогрессивной и динамичной тенденции в лесостепи этого географического пространства. На современном этапе развития науки познание дописьменной истории достигло такого уровня, что можно поставить вопрос о неправомерности данной концепции. По крайне мере, в одной из работ М. Ф. Косарева неравномерность рассматривается на межрегиональном уровне и в соответствии с хозяйственным направлением [2009]. В последние годы опубликована серия монографий, посвященных различным эпохам и историческим проблемам та- ежной зоны Западно-Сибирской равнины [Кокшаров, 2009; Чаиркина, 2005; Чемякин, 2008; Ковалева, Зырянова, 2010; Зах, 2009; Шорин, 1999; Матвеев, 1999]. Особо необходимо выделить работы М. Ф. Косарева, в которых наряду с характеристикой материальной и духовной культуры древних популяций дано представление автора об экологических и исторических процессах в Западной Сибири [1981; 1984; 1991]. Знания о древней истории лесостепи также претерпели существенную трансформацию [Моло-дин, 1985; 2001; Полосьмак, 1987; Полось-мак и др., 1989]. Опубликованные работы следует дополнить серией кандидатских диссертаций. Несмотря на активные познания древней истории Западно-Сибирской равнины, следует иметь в виду, что до сих пор остается практически неисследованной территория Обь-Енисейского междуречья. А это половина региона, к тому же большая ее таежная и тундровая площадь, так как Обь пересекает регион почти по диагонали – с юго-востока на северо-запад.
Таким образом, в археологии ЗападноСибирской равнины представлены памятники и культуры всей территории лесостепи, частично таежной зоны, преимущественно Зауралья; лесотундры и тундры – значительно меньше. Этот фактор следует учитывать при сравнительных и аналитических оценках исторического развития обществ как в Западной Сибири, так и на территории Евразии в целом.
Однако даже при таком состоянии изученности равнины можно утверждать, что степень ее освоения была достаточно высокой. В качестве примера приведем тот факт, что только на территории Сургутского района в настоящее время известно почти 3 000 археологических памятников. Особо следует выделить феном Барсовой Горы. В этом урочище на площади около 4 тыс. кв. км открыто 370 памятников археологии, не считая этнографических [Чемякин, 2007. С. 68]. По мнению исследователей, не все еще памятники выявлены, а какая-то часть их безвозвратно утрачена. В пределах Западной Сибири, да и других регионов азиатской части России, нет такой концентрации археологических объектов. Не менее интересен другой факт, выявленный на р. Быстрый Кульёган, где в среднем ее течении на протяжении 20 км расположено более 155 местонахождений [Борзунов и др., 2011.
С. 56]. Свидетельствуют ли эти факты о высокой степени освоенности равнины в целом или отражают наиболее благоприятные для жизнеобеспечения условия в конкретных районах? Последняя версия вероятна, так как М. Ф. Косарев хорошо показал неравнозначность отдельных территорий Западно-Сибирской равнины в изобилии рыбы и дичи, хотя сделано это на этнографических и исторических свидетельствах, т. е. по источникам Нового и Новейшего времени. Одновременно он не исключал рост народонаселения в периоды раннего железа и Средневековья, приводя в пример урочище Барсова Гора [1984. С. 92–103]. Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться к материалам и количественным показателям «прогрессивной» лесостепи и «отсталой» тайги того исторического периода, когда повсеместно господствовала присваивающая экономика. Так, на северной (59–60 ° с. ш.) территории Западной Сибири известно не более 50 памятников эпохи мезолита [Погодин, 2006. С. 7], а в Среднем Зауралье, по данным Ю. Б. Серикова, около 140 [2000. С. 18], тогда как на всю западно-сибирскую лесостепь приходится не более десяти мезолитических стоянок. При этом следует иметь в виду, что некоторые районы равнины до сих пор остаются мало исследованными или практически неисследованными. Приблизительно идентичная пропорция численных показателей памятников эпохи неолита. При всех поправках, включая недостаточную изученность эпохи камня в лесостепи, можно высказать предположение о том, что в период существования присваивающих форм хозяйства в тайге, лесотундре и тундре были относительно благоприятные условия для устойчивого общественного развития. Это могло вызвать и заметный рост численности населения.
Косвенно подтверждает этот тезис и то обстоятельство, что в процессе миграции, как считают многие исследователи, неолитическое население через лесостепь продвигалось в таежные районы со скудными сырьевыми источниками для производства орудий. Биоресурсы тайги, в меньшей степени тундры, обеспечивали потребности человека в пище даже при таком уровне развития производительных сил, какой характерен для мезолита и неолита. Другим аргументом, требующим дополнительной проверки, является «хуторской» характер неолитических стоянок и первых фортификационных сооружений этого времени в таежной зоне – Амня I, Каюково 2, Быстрый Кульёган-66 [Морозов, Стефанов, 1993; Ивасько, 2002; Поселение…, 2006]. Полностью раскопанных неолитических поселений практически нет. Поэтому об их размерах и планиграфии специалисты сведениями не располагают. Но то, что существовали стоянки, содержавшие только по два жилых сооружения и имевшие укрепление, достаточно хорошо известно.
Естественно, следует корректно использовать количественные показатели археологических памятников для демографических заключений. Но в данном случае интерес представляют стоянки, содержащие 1–2 жилища. Можно предполагать, что они связаны с локализованной частью рода. Очень важные рассуждения на эту тему – в работах М. Ф. Косарева, особенно в его монографии «Западная Сибирь в древности» [1984]. В ней встречаются такие понятия, как дисперсность населения, индивидуальность производственной деятельности, низкий уровень коллективной охоты и т. д., ставится вопрос о возможности сохранения родовой организации как экономической структуры общества. Индивидуализация охоты и рыбной ловли, основанной на активном использовании пассивных форм (компенсация недостатка в сырье для изготовления орудий), видимо, давала достаточно устойчивый запас пищевых ресурсов. Добыча копытных животных в таежной зоне зафиксирована археологически [Сериков, 2007]. Это могло привести к сегментации родовых коллективов, что археологически отразилось в стоянках с небольшим количеством обитателей. В свою очередь, если верна трактовка рвов как оборонительных сооружений, а памятник Амня I подтверждает это, то в таежной зоне довольно рано возникло состояние конфронтации. Вероятно, в таежной зоне Западной Сибири уже на раннем этапе развития неолита произошли значительные изменения в общественной системе древних коллективов и роль рода сводилась к идеологическим функциям и соблюдению экзогамии.
Немаловажным фактом для решения проблемы особенностей исторического развития древних популяций на севере Западной Сибири является многообразие куль- турных проявлений на этой территории. По мнению Л. Л. Косинской, эпоха неолита представлена не менее чем десятком культур и типов археологических памятников [2006. С. 18]. Для переходного времени от камня к палеометаллу и в эпохе бронзы их выявлено не меньше. Даже если учесть недостаточную аргументированность некоторых из них, археологическая карта остается достаточно «пестрой». Такого состояния не наблюдается ни в одном из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также на севере европейской части России. За этим обстоятельством, несомненно, кроется своеобразие исторических процессов на территории Западно-Сибирской равнины. Причем оно сохранялось, на мой взгляд, до переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку.
Мне уже приходилось отмечать, что освоение Западной Сибири, особенно ее северных территорий, которое произошло в эпоху раннего голоцена, а возможно, и раньше, явление многофакторное. Оно породило сложнейший процесс взаимодействия популяций юга и севера [Бобров, 2003]. Важнейшим из них был фактор природных ресурсов, который призван удовлетворить потребности человека в пище. Вместе с тем по мере продвижения в центральные районы Западно-Сибирской низменности и на север, человек утрачивал такие необходимые для жизнеобеспечения природные ресурсы, как сырье для производства орудий труда. М. Ф. Косарев – один из первых исследователей, обративших внимание на бедность Западной Сибири камнем и сырьем для производства цветного металла [1981; 1984. С. 32, 172] Эта естественная особенность Западно-Сибирского региона должна была сдерживать процесс освоения данной территории. Разрешение ситуации происходило по пути адаптации местного сырья, там, где он был, к производственным потребностям, о чем, например, свидетельствуют неолитические материалы Барсовой Горы. Л. Л. Косинская приводит данные по сырьевой стратегии и камнеобработке других памятников эпохи неолита, в основе которых лежат, по определениям геологов, местные породы [2010]. Адаптация находит отражение в широком использовании такого технического приема, как шлифование. Нет других регионов в азиатской части России, кроме таежной зоны Западной Сибири, где бы получи- ли распространение шлифованные каменные наконечники стрел. Второй путь разрешения кризисной ситуации – экспедиционный или транзитный варианты поставки сырья.
Ю. Ф. Кирюшин и А. М. Малолетко отмечают направления поставки каменного сырья в районы Васюганья, прежде всего, с территории Притомья и Кузнецкого Алатау [1979]. Петрографический анализ (выполнен Н. А. Кулик) каменных орудий раннего и позднего неолита поселения Автодром-2 (северо-западный район Бара-бинской лесостепи) показал использование сырья из Кузнецко-Салаирской горной области и Центрального Казахстана. В 2009 г. мною был сделан доклад на конференции «Человек и Север», организованной Институтом проблем освоения Севера СО РАН, в котором была поставлена проблема сырьевых ресурсов в аспекте историко-культурных процессов [Бобров, 2009]. Он вызвал недоверие у некоторых специалистов. Но в 2010 г. один из них опубликовал статью, в которой пришел к тем же выводам, хотя и без ссылки. В ней достаточно квалифицированно дана характеристика каменного сырья, использованного для изготовления орудий в эпоху неолита и раннего металла населением Притоболья и Приишимья. Важен вывод о том, что высококачественные породы поступали из Южного Урала и Центрального Казахстана.
Наконец, следует обратить внимание на пластинчатую индустрию мезолитического периода, многочисленные памятники которого представлены на территории Кондин-ского плато [Безпрозванных, Погодин, 1999]. Несмотря на то, что петрографические исследования каменного сырья не получили необходимого распространения и уровня, можно предполагать, что процесс устойчивого освоения Западно-Сибирской низменности и последующего развития обществ региона был возможен при сохранении связи с исходным и поиском новых источником сырья. Если в эпоху камня местные источники в какой-то степени покрывали потребности жизнеобеспечения, то в эпоху палео-металла производство орудий из нового материала могло быть только на сырьевых центрах за пределами крупнейшей в мире низменности. Достоверно археологически установлено, что впервые металл здесь появился в сейминско-турбинское время [Ко- рочкова, 2010; Стефанов, 2006]. Небезынтересно то, что направления его поставки были те же, что и в эпоху камня, т. е. «знакомый» маршрут – Южный Урал, Центральный Казахстан, Южная Сибирь, включая Кузнецко-Салаирскую горную область. В этой связи хотелось бы обозначить проблему корректного использования общей археологической периодизации, основанной на западно-европейских материалах. Современные источники азиатской части России явно противоречат некоторым устоявшимся ее канонам. В конкретном случае речь идет об энеолите на территории севера Западной Сибири.
Подводя итоги изложения, можно сказать, что посредническое или прямое участие в поставке сырья не могло не приводить к взаимному обогащению знаниями о достижениях в производственной деятельности, в материальной и духовной культуре, в общественной организации. Эта область относительных производительных сил, несомненно, оказывала позитивное воздействие на историко-культурное развитие обществ, прежде всего, северных районов Сибири. Таков один из вероятных выводов, который можно предложить на основании имеющихся данных. Другой вывод связан с такой особенностью культурно-исторического развития, как ранняя социально-экономическая трансформация древних обществ в системе присваивающей экономики таежной зоны. Конечно, нельзя исключать и иные варианты процессов. Антропологи отмечают, что формирование западно-сибирской расы обусловлено как миграцией, так и относительной изоляцией популяций [Акся-нова, 1999; Багашов, 1999]. И этот процесс, по их мнению, восходит к эпохе неолита.
SOME ASPECTS OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF FEATURES WEST SIBERIA IN THE EARLY HOLOCENE AND PALEOMETAL