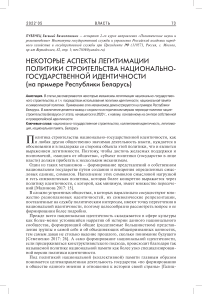Некоторые аспекты легитимации политики строительства национально-государственной идентичности (на примере Республики Беларусь)
Автор: Лубенец Евгений Вячеславович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые механизмы легитимации национально-государственного строительства, в т.ч. посредством использования политики идентичности, национальной памяти и символической политики. Применение этих механизмов демонстрируется на примере Республики Беларусь. В заключение делается вывод о скором по историческим меркам переходе политики нациестроительства Беларуси от этапа, начавшегося в 2020 г., к новому, основанному на синтезе собственной и проевропейской идентичности.
Национально-государственное строительство, коллективная идентичность, легитимация, национальная память, беларусь
Короткий адрес: https://sciup.org/170195884
IDR: 170195884 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9241
Текст научной статьи Некоторые аспекты легитимации политики строительства национально-государственной идентичности (на примере Республики Беларусь)
П олитика строительства национально-государственной идентичности, как и любая другая общественно значимая деятельность власти, нуждается в обосновании и в поддержке со стороны объекта этой политики, что и является выражением легитимности. Поэтому, чтобы достичь желаемых поддержки и полномочий, «мандата от общества», субъект политики (государство в лице власти) должен прибегать к нескольким механизмам.
Один из таких механизмов – формирование представлений о собственном национальном государстве путем создания и внедрения определенных смысловых единиц, символов. Наполнение этих символов смысловой нагрузкой и есть символическая политика, которая более конкретно выражается через политику идентичности, с которой, как минимум, имеет множество пересечений [Малинова 2017: 15].
В сложно устроенных обществах, в которых параллельно сосуществуют множество разноплановых идентичностей, их символические репрезентации, поставленные на службу политическим интересам, имеют точку пересечения в национальной идентичности, поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о ее формировании более подробно.
Прежде всего национальная идентичность складывается в сфере культуры как более-менее устоявшийся нарратив об истории данного национального сообщества, формирующий общие (разделяемые большинством) представления группы о самой себе и об объединяющих общепризнанных ценностях, тем самым давая не столько в и дение прошлого, сколько понимание будущего [Семененко 2017: 26]. А само формирование национальной идентичности, если придерживаться конструктивистского подхода, происходит благодаря так называемой политике национальной памяти как более узко специализированной версии политики идентичности.
Под политикой национальной (коллективной) памяти главным образом понимается целенаправленная деятельность государства «по формированию в обществе единого мнения и отношения к истории своей страны» [Галиц- кая 2021: 51]. На практике эта деятельность проявляется в стремлении власти закрепить в сознании общества желаемую интерпретацию, общепринятое представление о значимых исторических событиях (чаще всего – о войнах, что затрагивает такую важную сторону политики идентичности, как бинарное противопоставление «мы – они»), позволяющих легитимировать действующую власть и проводимую ею политику.
И особенно активно политика памяти используется в качестве властного ресурса в трансформирующихся обществах, в «национализирующихся государствах», как Р. Брубейкер назвал полиэтнические общества постсоветского пространства, которые не так давно приступили к строительству возрожденной государственности и в которых процессы модернизации только начали набирать силу, сопровождаясь нарастанием социального неравенства, а иногда и межэтнических конфликтов разной степени интенсивности [Brubaker 2011: 1785].
К числу этих стран принадлежит и Республика Беларусь. Забегая вперед, отметим, что в ее политике строительства национально-государственной идентичности наблюдается, если смотреть через призму исторической политики (политики памяти), две основные противоборствующие тенденции: национально-европейская и советская. В зависимости от того, какая из них брала верх, можно выделить несколько основных периодов, почти полностью совпадающих со сменами ее политического курса: перестройка – начало 1990х; 1995–2003 гг.; переходный период 2003–2010 гг.; 2010–2020 гг.; с 2020 по настоящее время.
Первый из вышеперечисленных периодов отметился десоветизацией страны. За точку отсчета истории Беларуси был взят XI в., т.е. эпоха, когда Полоцкое княжество фактически стало независимым от Киевской Руси, что является довольно распространенной практикой по созданию эффекта древней государственности. Также особый акцент делался на периоде пребывания белорусских земель в составе Великого княжества Литовского, который подавался как золотой век белорусской культуры. В тех же учебниках 1991–1995 гг. выпуска как главные события белорусской истории упоминались битва при Грюнвальде 1410 г. и битва под Оршей 1514 г.; в истории ХХ в. большое внимание уделялось репрессиям 1930-х гг. [Бикетова, Чернышов 2018: 97]. Тогда же десоветизация Беларуси коснулась и символической политики: в частности, на бело-краснобелый стяг (БЧБ) и герб «Погоня» были заменены прежние флаг и герб1. Примечательно, что оба государственных символа имеют непосредственное отношение к наследию литовского периода белорусской истории и позиционируют Беларусь как европейское государство.
С приходом к власти А.Г. Лукашенко начался этап «реставрации» государственности советского типа, что хорошо просматривалось по возвращению советской государственной символики, а также по учебникам того времени. В них уже подчеркивалось, что современная государственность Беларуси берет начало от БССР (тогда как Белорусская народная республика, образованная в 1918 г., оценивалась как марионеточное государство под протекторатом Германии). В истории ХХ в. акцент сместился на Великую Отечественную войну и партизанское движение. С тех пор тема войны стала центральной в политике памяти и построении белорусской гражданской идентичности [Бикетова, Чернышов 2018: 97]. Этот поворот в политике памяти отразился и на государственных праздниках. Так, День независимости Беларуси был перенесен с 27 июля (день принятия декларации о государственном суверенитете в 1991 г.) на 3 июля – день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков1.
В 2003 г. история страны вновь начинает постепенно «национализироваться», становится более белорусской, поводом к чему послужили изменения в отношениях с Россией, связанные с затруднениями очередного этапа интеграции. Точкой отчета этого периода можно считать выступление А.Г. Лукашенко в БГУ. В своей лекции «Исторический выбор Беларуси» президент существенно скорректировал оценки исторического прошлого, попытавшись совместить версии государственности литовского и российско-советского периодов белорусской истории2. Так, развитие культуры пошло в русле синтеза общенациональных истоков белорусской государственности и возрождения белорусских традиций с сохранявшими значительное влияние советской и современной российской, а также, в меньшей степени, европейской культурами (последняя присутствует в т.ч. и благодаря деятельности Римско-католической церкви, существенно увеличившей число своих религиозных общин [Бикетова, Чернышов 2018: 99]).
Вполне естественно, что в условиях провозглашенного Союзного государства президент Беларуси не мог полностью отказаться от «восточного» компонента национальной идентичности, который, помимо прочего, использовался и как инструмент противодействия сторонникам альтернативных концепций национально-политического самоопределения, взятых на вооружение проев-ропейской оппозицией, которую А.Г. Лукашенко охарактеризовал как националистическую [Бахлова, Бахлов 2020: 741]. Таким образом, в президентском и вторящем ему официально-научном теоретическом дискурсе оформился конструкт «двойной» идентичности. С одной стороны, продвигалась идея о братской национальной идентичности двух народов и государств евразийской направленности, но, с другой стороны, эта идея достаточно мягко была дополнена дискурсом суверенности, все более и более набиравшим силу [Бахлова, Бахлов 2020: 743].
С 2010 г. на фоне осложнений в российско-белорусских отношениях этот процесс еще более активизировался. Особенно это стало заметным после 2014 г., когда А.Г. Лукашенко стал проводить более многовекторную внешнюю политику, что, в частности, проявилось в демонстрации нейтралитета во время первой острой фазы войны в Украине или предоставлении права безвизового въезда для граждан 74 стран и т.д., благодаря чему ему удалось на последующие 6 лет избавиться от титула «последнего диктатора Европы». В контексте политики идентичности все это привело к усилению европейского элемента, почти стертого за предыдущие 20 лет.
В то же время советско-российский компонент сохранил за собой прочное место в белорусском обществе благодаря не только близости духовных традиций и общих социокультурных характеристик, но и символическому потенци- алу языковой политики. Несмотря на попытки популяризации белорусского языка, большинство населения (70,2%) остается русскоязычным1, что не может не сказываться на культурно-цивилизационной идентичности. Пожалуй, здесь будет целесообразно отметить недостаточность усилий самого президента РБ, отдающего предпочтение не национальному языку и таким образом легитимирующего государственное строительство по советскому образцу, за что его часто критикует оппозиция.
Впрочем, к концу означенного периода стал преобладать первый (национальный) элемент как более соответствующий вышеупомянутому дискурсу суверенности. Так, в 2016 г. была заложена традиция проведения Дня вышиванки [Бикетова, Чернышов 2018: 99], а в 2018 г. впервые за несколько лет власти санкционировали празднование Дня воли 25 марта, приуроченного к столетию независимости БНР2. Объяснить подобный сдвиг можно озабоченностью А.Г. Лукашенко, вызываемой концепцией русского мира, в которой Беларусь, равно как и другие соседние с Россией страны, видят угрозу своей независимости [Бахлова, Бахлов 2020: 745]. Поэтому, как и в случае со сдерживанием европейского компонента, предпочитаемого оппозицией, А.Г. Лукашенко, легитимируя свое пребывание у власти, точно так же сдерживает и советско-российский элемент, периодически балансируя в политике строительства национально-государственной идентичности Беларуси.
Однако 2020 г. изменил очень многое в белорусской политической жизни. На фоне массовых протестов БЧБ, всегда бывший символом проевропейской оппозиции, окончательно попал под запрет, а контакты с Европой оказались существенно ограниченными. Официальная культура приобрела более маскулинный, антилиберальный и милитаристский характер, направленный на легитимацию действующей власти, основанную уже не на конструировании собственной идентичности, а на противопоставлении страны «внешним недружественным силам» (Польша, США), что делает практически невозможным дальнейшее балансирование не только во внешней политике, но и на пути строительства нации. В то же время в белорусском обществе сохранился европейский компонент идентичности, который достаточно органично вписался в него за предыдущие годы нациестроительства, будучи обусловленным уже самой историей белорусского народа.
Рассмотрев динамику строительства национально-государственной идентичности, можно прийти к выводу, что настоящий его период не будет долговечным, поскольку нынешняя политика утратила свое созидательное начало. Следовательно, в обозримой перспективе перед белорусским обществом снова встанет вопрос о пути нациестроительства. И, по всей видимости, из разных элементов белорусской идентичности (национальные традиции, советско-российские атрибуты, во многом сохранившие привлекательность для старшего поколения, и европейский компонент) победу одержит синтез первого и третьего. Иными словами, следующему поколению политиков не останется ничего другого, кроме как постепенно отказываться от второго элемента как по естественным причинам, связанным с физическим обновлением общества, так и по политическим, вытекающим из ошибок действующего режима.
Список литературы Некоторые аспекты легитимации политики строительства национально-государственной идентичности (на примере Республики Беларусь)
- Бахлова О.В., Бахлов И.В. 2020. Политика идентичности в контексте нациестроительства и интеграционного взаимодействия (на примере Союзного государства Беларуси и России). - Регионология. Т. 28. № 4. С. 723-753.
- Бикетова Е.А., Чернышов Ю.Г. 2018. Нациестроительство Республики Беларусь и европейский компонент белорусской идентичности. - Мировая экономика и международные отношения. Т. 62. № 1. С. 94-103.
- Галицкая К.А. 2021. Политика национальной памяти как технология легитимации власти. -Дискурс-Пи. № 1(42). С. 48-61.
- Малинова О.Ю. 2017. Политика идентичности как борьба за смыслы: проблемы концептуализации. - Символическая политика: сборник научных трудов. Вып. 5. Политика идентичности (редкол.: О.Ю. Малинова и др.). М.: Изд-во ИНИОН РАН. С. 7-20.
- Семененко И.С. 2017. Политика идентичности: меняющаяся повестка дня. - Символическая политика: сборник научных трудов. Вып. 5. Политика идентичности (редкол.: О.Ю. Малинова и др.). М.: Изд-во ИНИОН РАН. С. 21-40.
- Brubaker R. 2011. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States. - Ethnic and Racial Studies. Vol. 34. No. 11. P. 1785-1814.