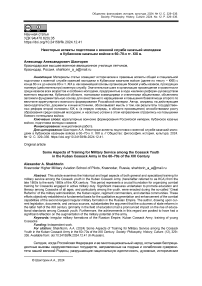Некоторые аспекты подготовки к военной службе казачьей молодежи в Кубанском казачьем войске в 60-70-х гг. XIX в
Автор: Шахторин Александр Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Материалы статьи освещают исторические и правовые аспекты общей и специальной подготовки к военной службе казачьей молодежи в Кубанском казачьем войске (далее по тексту - ККВ) с конца 60-х и до начала 80-х гг. XIX в. как важнейшей основы организации боевой учебы казаков, проходящих полевую (действительную) военную службу. Значительные шаги в организации просвещения и грамотности среди казаков всех возрастов и особенно молодежи, предпринятые в ходе «великих реформ» руководством военного ведомства, Кубанской области, полковыми командирами и станичными обществами, объективно заложили фундаментальную основу для качественного наращивания и повышения боевой мощи второго по величине иррегулярного воинского формирования Российской империи. Автор, опираясь на действующее законодательство, документы и иные источники, обосновывает мысль о том, как результаты государственных реформ второй половины XIX в. (в первую очередь, в области просвещения) способствовали росту образования среди казачьей молодежи, и насколько успехи в этом направлении отразились на повышении боевого потенциала войска.
Иррегулярные воинские формирования российской империи, кубанское казачье войско, подготовка молодых казаков
Короткий адрес: https://sciup.org/149147088
IDR: 149147088 | УДК: 94(470.620):35 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.41
Текст научной статьи Некоторые аспекты подготовки к военной службе казачьей молодежи в Кубанском казачьем войске в 60-70-х гг. XIX в
и семейные ценности граждан, успешно решают важнейшие цивилизационные задачи ликвидации неонацизма и национализма на украинской земле, вопросы патриотического воспитания российской молодежи на подвигах наших великих предков как никогда актуальны. Славная история российского казачества тому достойный пример. Жизнь, быт, военная служба и система подготовки к ней, традиции казачества, его обычаи, уважительное отношение младших к старшим, демократическая основа жизни станичных обществ, готовность пожертвовать собой за правду во имя Отечества, веры и сотоварищей – важнейшие составляющие менталитета казаков России прошлых столетий – в наши дни должны стать стержневой основой воспитания современной молодежи.
В работе автор, руководствуясь методологическими принципами историзма, сравнения, объективности, описательно-повествовательным (нарративным) и другими, ставит перед собой цель по-новому взглянуть на эту проблематику с учетом исторического опыта казаков XIX в., актуализируя вопросы подготовки к предстоящей военной службе молодых граждан нынешней России. Используя не только опубликованные, но и ранее неизвестные исторические материалы, исследователь делает попытку по-новому представить объективную картину прошлого, свободную от политической конъюнктуры, показав в контексте того времени существенные достижения при подготовке к военной службе допризывной молодежи ККВ на фоне государственных реформ, проводящихся в империи.
Материалы статьи могут использоваться при проведении монографических исследований по истории подготовки и воспитания в XIX ‒ начале XX в. казачьей молодежи, а также для написания общих работ по истории Кубанского края и казачества.
60–70-е годы XIX в. для Кубанского казачьего войска и войскового сословия Кубанской области не были простыми во всех отношениях. Отдаленные, малолюдные, экономически отсталые, некогда приграничные казачьи территории юга России, где основными хозяевами на протяжении десятилетий чувствовали себя казаки Черноморского и Кавказского линейного войск, после окончания в 1864 г. многолетней Кавказской войны сначала медленно, а затем все быстрее стали осваиваться в ходе широкомасштабных государственных реформ («Великих реформ»), успешно проведенных в 60–70-х гг. XIX в. в период правления императора Александра II.
Начиная со второй половины 50-х гг. и вплоть до начала 70-х гг. Кубанское казачье войско подверглось значительным преобразованиям, призванным разрешить давно назревшие многочисленные острые проблемы в сфере организации военной службы и административного устройства региона, порядка управления войска и налаживания в нем системы боевой подготовки, отбывания казаками воинской повинности, обучения казачьей молодежи, а также регламентации всего гражданского уклада жизни станичных обществ (Шахторин, Потапов, 2023: 277‒284).
Высочайшим законом № 35421 от 8 февраля 1860 г. в регионе была начата широкомасштабная административно-территориальная реформа, в результате которой новые статусы обрели правый и левый фланги пограничной Кавказской линии. Первый был назван Кубанской областью, второй ‒ Терской1.
В этом же году, на основании закона № 36327 от 19 ноября 1860 г., были изменены Положения о Черноморском и Кавказском линейном казачьих войсках, получивших новые наименования: Кубанское и Терское2.
Эти два события послужили отправной точкой, став началом многочисленных преобразований всех сфер жизни военно-служивого сословия юга страны.
В этой связи не нужно забывать и о том, что до середины 60-х гг. девятнадцатого столетия Северный Кавказ был ареной жесткого военного противостояния коренных народов Кавказа и России. А значит, все усилия государства, военного ведомства и руководств Кубанского и Терского казачьих войск были направлены на охрану кордонной (пограничной) линии по рекам Кубань и Терек от набегов горцев, ведение военных действий с противником, организацию совместно с частями регулярной армии войсковых операций вглубь вражеской территории.
Жизнь станичных обществ и казаков при этом строго регламентировалась и была подчинена решению следующих важных задач:
-
– выставление на службу казачьих конных полков, пеших батальонов и конно-артиллерийских батарей;
-
– поддержание боевой и мобилизационной готовности личного состава казачьих частей, находящихся на льготе;
-
– подготовка в зимний период, когда не проводились сельскохозяйственные работы, к будущей службе казачьей молодежи;
-
– ежегодное проведение сборов льготных казаков, сотенных и полковых учений;
-
– организация службы нестроевых казаков при различных войсковых учреждениях;
-
– материальное и финансовое обеспечение казачьего сословия, решение иных вопросов, как относящихся к военной проблематике, так и регулирующих общественные отношения в области торговли, землеустройства, сельского хозяйства, рыболовства, медицины, образования, строительства и развития дорожной сети, охраны правопорядка, судебной и пенитенциарной систем, положения иногородних граждан (лиц неказачьего сословия) и других.
Безусловно, введение в 60-х гг. XIX в. (период, когда в регулярной армии с 1862 г. стала успешно набирать обороты военная реформа под руководством военного министра Д.А. Милютина) каких-либо существенных новаций в войске, связанных с улучшением и реорганизацией в нем (по образцу регулярной армии) всей системы подготовки нижних чинов и офицеров, прежде всего в строевых частях ККВ, а также обучения неслужившей молодежи, было чрезвычайно затруднительно.
Как и в прежние времена, всем премудростям военного дела кубанские казаки обучались у своих имеющих боевой опыт сослуживцев в ходе боевых операций против черкесских народов. Смело перенимали они приемы и способы вооруженной борьбы в сложных условиях горно-лесистой местности и у противника, который был хитер, дерзок и смел (Толстов, 1901: 138).
На протяжении всей истории иррегулярных войск Российской империи особого, пристального внимания начальства, станичных обществ и семей казаков удостаивались вопросы правильного (в лучших традициях казачьего рода) воспитания и обучения казачьих детей основам военного дела.
Как отмечал в своей статье «Особенности одиночной подготовки казаков к военной службе» Д. Соловьев, в силу укоренившихся у казаков обычаев, уже с первых дней рождения молодого казачонка близкие и друзья семьи новорожденного одаривали его многочисленными подарками, напрямую связанными с ратным делом. Вокруг люльки с малышом развешивалось огнестрельное и холодное оружие со всеми принадлежностями к нему. А на сороковой день отец, надевая на сына портупею с шашкой, сажал его на коня, после чего, аккуратно передавая ребенка матери, поздравлял ее с рождением казака. Как правило, уже с трехлетнего возраста казачата ездили на лошадях по подворью, а в пять лет уверенно скакали по степи. В семь лет им доверяли ружье и обучали стрельбе. Примечательно и то, что часто казачьи офицеры своих сыновей пяти-семи лет могли брать с собой на службу (Соловьев, 2011: 30‒32).
Таким образом, к моменту поступления на службу молодой казак уверенно управлял лошадью, владел шашкой и отлично стрелял. Образ жизни в казачьих станицах в полной мере способствовал тому, что «…службу казаки несли ревностно. Старших по чину почитали. Общепринято было то, что престиж казака определяется не богатством, а службой» (Никитин, 2007: 398‒399).
По свидетельству современников, в дореформенный период XIX в. основные навыки по овладению ратным делом казаки-подростки получали от старших товарищей, помогая им на охоте и рыбалке, работая табунщиками.
Кроме того, им ежегодно вменялась обязанность участвовать в военных сборах для малолетков и посещать в зимний период занятия по военному делу в станичных школах1 (Попко, 1998: 51).
Нередко в войске из молодых казаков 13‒17 лет по просьбе их родителей, решением казачьего начальства временно образовывали особые команды, подчинявшиеся адъютанту при наказном атамане. Как правило, в такие команды зачислялись юноши из офицерских и урядничьих семей. Со старшими, опытными казаками они ходили на военные операции и в разведку, за что нередко награждались медалями. «…Так у нас исподволь приготовлялись добрые казаки, надежда семейств и будущая гроза горцев…», ‒ отмечал на страницах «Военного сборника» автор заметки «Записки старого казака» Аполлон Шпаковский (1871: 339).
Уроженец Кубани, военный историк и общественный деятель, один из виднейших представителей ККВ генерал-лейтенант Иван Попко в своих очерках «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» по этому поводу справедливо отмечал, что, прежде всего, усилия по охране границы служили «…казакам школой для большой войны…» (Попко, 1998: 122).
Таким образом, к началу 60-х гг. девятнадцатого столетия система подготовки казачьей молодежи в ККВ находилась в процессе становления, базировалась на принципах преемственности и наставничества при передаче боевого опыта, знаний, навыков и умений от более опытных и немало прослуживших казаков молодым. Процесс военной подготовки в каждом казачьем войске имел свои особенности и традиции, а значит, требовал в период реформирования всей военной организации государства, в том числе казачьих формирований, детальной нормативноправовой регламентации с принятием соответствующих Положений.
Начавшиеся в 60-х гг. XIX в. преобразования в Кубанском казачьем войске так или иначе затрагивали и комплекс мероприятий, проводимых станичным руководством по подготовке к военной службе неслужившей казачьей молодежи. Их успешность полностью зависела от происходящих в ККВ перемен, которые на начальном этапе были весьма незначительными. Если у кубанских казаков достижения в обучении и боевой подготовке в реорганизованном в 1860 г. и воюющем до 1864 г. Кубанском казачьем войске вплоть до начала 70-х гг. были более чем скромными, то в этот же исторический период в регулярной императорской армии темп военных преобразований активно нарастал. Так, уже к концу 60-х гг. XIX в. в государстве была коренным образом перестроена вся система военных учебных заведений, осуществлявшая подготовку офицерских кадров в академиях, военных и юнкерских училищах. Подверглись реорганизации учебные заведения по подготовке из нижних чинов лиц унтер-офицерского звания. Были введены новые для того времени уставы, наставления и инструкции, регламентирующие методы и тактические приемы ведения боевых действий. В войска стали поступать современные образцы вооружений с нарезным оружием. При подготовке нижних чинов был сделан акцент на обучение их основам письма, счета и чтения (Зайончковский, 1952: 58).
Проводимыми военными преобразованиями руководство страны и военного ведомства намеревалось разрешить сразу две задачи. Первая – это повышение боеспособности вооруженных сил государства. Вторая ‒ снижение финансовой нагрузки на государственный бюджет.
В ходе реформирования требовалось создать такую «военную машину», которая в межвоенный период отличалась бы своей малочисленностью, а в военное время могла многократно нарастить свой численный состав за счет обученного и хорошо подготовленного мобилизационного резерва. На этом фоне мнения о том, что иррегулярные воинские части несовременны, в западных армиях аналогов таковым нет, боеспособность, вооружение и обученность казаков оставляют желать лучшего, «разбивались» о суровые реалии жизни.
Казачество в силу своей исторической природы ‒ и на это не могли не обращать внимание в военном ведомстве ‒ оставалось хорошо организованной, верной «Царю и Отечеству» военной силой с глубокими родовыми связями и укоренившимися на протяжении веков станичными традициями и обычаями. Именно казачество во время войны могло представлять собой слаженную, достаточно хорошо обученную военному делу легкую кавалерию, и что особенно важно ‒ малозатратную для государственной казны реальную военную силу, численность которой после объявления военной мобилизации в короткий срок увеличивалась в два-три раза (Шахторин, Потапов, 2023: 278).
Руководствуясь вышесказанным, автор отмечает тот факт, что у всех казаков Российской империи, включая кубанских, в плане обучения военному делу было огромное преимущество перед представителями других сословий. Во-первых, казакам были чужды рекрутские наборы, когда в армию набирались в большей степени выходцы из неграмотных крепостных крестьян, имевших самое отдаленное представление о службе и подготовке к ней. Во-вторых, казачья молодежь воспитывалась и подготавливалась к защите Родины с ранних лет системно и последовательно, под чутким присмотром опытных, имевших боевой опыт станичников. В-третьих, ККВ по окончании Кавказской войны (1864 г.) продолжало оставаться одним из немногих иррегулярных воинских формирований государства, имевших богатейший боевой опыт.
В пореформенный период ККВ, с точки зрения достижения целей военной реформы, необходимы были современные виды вооружений, обученный новым приемам и методам ведения военных действий командный состав, перестройка системы управления казачьими формированиями внутри войска и за его пределами, а также слаженная, многоуровневая система подготовки неслужившей молодежи, казачьих нижних чинов и офицеров.
Уже в 1867 г. в организацию подготовки казаков ККВ, пребывающих на льготе, и казачьей молодежи к предстоящей военной службе были внесены изменения высочайше утвержденным 13 мая 1867 г. «Положением о мерах для поддержания между казаками Кубанского войска строевого образования и наездничества». Документ предписывал в выходные и праздничные дни, когда не было полевых работ, проводить в станицах занятия по стрельбе, наездничеству и джигитовке с льготными и неслужившими казаками от семнадцати до девятнадцати лет1.
Ранее руководство ККВ организовывало подготовку казачьей молодежи на основании временных правил Донского казачьего войска от 23 ноября 1865 г., в которых не всегда учитывались местные особенности2.
Объективно результаты реформирования системы военной подготовки в казачьих формированиях в целом, а в ККВ – в частности, по сравнению с регулярной армией, стали вырисовываться и конкретизироваться на рубеже 60‒70-х гг. девятнадцатого столетия. Правовой основой этому послужили высочайше утвержденные во всех казачьих войсках «Положения о воинской повинности и содержании строевых частей». Документы, с учетом территориальных особенностей, численности и боевого предназначения каждого войска, конкретизировали их статус, штатную численность, систему комплектования частей первой очереди, проведение сборов и учений в станицах и округах, обучение и организацию призыва на военную службу казачьей молодежи. При этом, по многочисленным свидетельствам современников, система подготовки и организации службы в казачьих войсках, в том числе Кубанском, все больше стали приближаться к установленным в регулярных частях вооруженных сил Российской империи (Maurice, 1945; Бреэре, 1992; McNeal, 1987; Шуваев, 1881).
-
1 августа 1870 г. было принято первое среди казачьих войск империи высочайше утвержденное «Положение о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» (Есаул Дукмасов I, 1871: 203–223).
Новый документ, вступив в силу с 1 января 1871 г., по-новому регламентировал деятельность войска и войсковых учреждений, а также определял их новые штаты на ближайшее десятилетие. Отдельным параграфом Положения подробно разъяснялись изменения, касающиеся развития общего образования среди казачьей молодежи и других сословий в Кубанской области. Ведь по количеству школ и обучающихся в них учеников ситуация в ККВ в начале 70-х гг. XIX в. была самая неприглядная среди казачьих войск государства. Так, в «Общем обзоре состояния и деятельности всех частей Военного министерства за 1871 год», опубликованном в «Русском военном обозрении», подчеркивалось, что «…народное образование развито… менее всего в Донском, Сибирском и Терском и особенно в Кубанском войсках»1.
Необходимо отметить, что руководители ККВ тех лет прекрасно понимали острейшую необходимость развития образования в казачьей среде как важнейшей основы совершенствования у казаков всех возрастов способностей эффективно осваивать военную науку, грамотно применяя полученные знания в служебно-боевой деятельности. Еще в 1865 г. атаман ККВ Ф.Н. Су-мароков-Эльстон в своем отчете в Управление иррегулярных войск докладывал, что после окончания Кавказской войны «…гражданское развитие и образование народа… сделались главным предметом заботливости местного начальства…»2.
Казачий генерал, по совместительству известный писатель и историк И.Д. Попко, в 60-е гг. XIX в. исполняя должность полкового командира на новых территориях в Закубанье, приложил немало усилий по открытию в станицах вверенного ему полкового округа начальных учебных заведений. Он стремился как можно скорее решить одну из первостепенных задач, остро стоявших на повестке дня у кубанцев, ‒ сделать начальное обучение обязательным для каждого юноши. Этим, по его мнению, достигалась важнейшая цель военной реформы ‒ «…иметь солдат грамотных и освобожденных от телесных наказаний…»3 (Трехбратов, 2017).
Однако к началу 70-х гг. XIX в. образовательный потенциал полковых школ себя исчерпал. На эту острейшую проблему в отчете за 1870 г. о состоянии войска обращал внимание вышестоящего руководства наказной атаман ККВ М.А. Цакни: «Только и шло сносно начальное образование в тех бригадах, где школами заведовали офицеры, по призванию к этому роду деятельности, и по добровольному желанию. Во всех прочих станичных школах учение шло ниже всякой посредственности…»4.
«Положением о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» (1870 г.) проблема с качеством подготовки в начальных учебных заведениях была решена достаточно эффективно. Полковые школы упразднялись, их учебная и материальная базы передавались станичным обществам для образования общественных станичных и городских училищ, подведомственных Министерству народного просвещения и осуществляющих свою деятельность на основе единых правил о начальных училищах5.
Войско сохранило в своем ведении и финансировало только свои учебные заведения, в которых молодым кубанцам, как правило, будущим казачьим командирам, преподавались основы военно-профессиональных знаний, а воспитанникам ККВ, обучающимся за пределами Кубанской области, выплачивались стипендии.
Изучая историю Кубанского края и казаков в 70-х гг. XIX в., нельзя не упомянуть наказного атамана Кубанского казачьего войска с 1873 по 1882 г. H.Н. Кармалина и его заслуги в развитии просвещения и общего образования среди кубанских казаков и горского населения региона. С 1873 по 1881 г. при его непосредственном участии количество начальных училищ в области возросло со 196 до 2641.
В 1882 г. в 278 средних и начальных учебных заведениях на Кубани обучалось 12 298 учащихся мужского пола и 2 942 учащихся женского пола2.
В конце 1874 г. распоряжением наказного атамана H.Н. Кармалина при школах стали создаваться вечерние классы, где молодые казаки повышали свой образовательный уровень. В этом же году библиотеки при строевых частях ККВ стали комплектоваться из книжных фондов военных отделов. Чтобы повысить уровень военно-теоретической подготовки казачьих офицеров войска, атаман выступил с инициативой организации офицерского собрания в г. Екатеринодаре.
Говоря о значении роста уровня общей грамотности в среде казачьей молодежи и ее влиянии на успехи в боевой подготовке казаков, нельзя не обратить внимание на весьма своевременные выводы по данной проблематике, сделанные есаулом Дукмасовым в «Военном сборнике»: «Грамотность, кроме общего значения, необходима и в чисто военных расчетах, особенно в таком сложном вопросе, как кавалерийское дело… Относительно масс безусловно верно то, что где больше читают, там больше и думают; масса же, сильная в мысленной работе, всегда будет бить ту, которая в этой работе слаба» (Есаул Дукмасов I, 1871: 221‒223).
Таким образом, усилиями руководства страны, министерства народного просвещения, военного ведомства в 70–80-х гг. XIX в. в Кубанской области была выстроена новая система начальных и средних учебных заведений. Образовательный уровень детей нижних чинов и офицеров ККВ при этом стал неизменно повышаться, благотворно влияя на их становление во время военной службы.
После утверждения в 1870 г. и введения в действие с 1 января 1871 г. «Положения о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» «Положение о мерах для поддержания между казаками Кубанского войска строевого образования и наездничества» (1867 г.) в новом прочтении было включено в документ в виде приложения к статье 53. Нормативно-правовым актом определялось, что неслужившая молодежь возрастом от 17 до 19 лет один раз в год, осенью или весной (в период, когда лошади находились на подножном корме), в течение месяца обязана была проходить совместно с льготными казаками организуемые в станицах военные сборы «…для строевого учения и стрельбы в цель…». Для их проведения в войско от казачьих конных полков первой очереди командировались шесть офицеров-инструкторов, от пластунских батальонов – пять.
По выходным дням, в период сборов инструкторский состав обязан был контролировать состояние обученности казаков, их оружие, лошадей и экипировку. Все недостатки, которые обнаруживались при проведении занятий и смотров, незамедлительно докладывались через руководство военных отделов наказному атаману. Руководством войска придавалось большое значение слаженной работе военных отделов ККВ, осуществляющих непосредственный надзор и отвечающих за качественные результаты проводимых сборовых мероприятий3.
Офицеры-наставники находились в области до ноября-декабря, то есть до убытия на службу молодых казаков нового призыва.
В период сборов и на зимних занятиях молодых казаков обязательно знакомили с положениями «Воинского устава о строевой службе конных полков казачьих войск». В первой части Устава были определены задачи, регламентирующие подготовку к военной службе допризывной молодежи. Казачьим командирам, говорилось в документе, «…необходимо заботиться, чтобы первая часть Устава, заключающая в себе начальные правила строевого обучения… прочитывалась малолеткам в дни, назначенные для их домашних военных упражнений…»4.
Чему обучали кубанских юношей на ежегодных сборах в станицах, можно узнать из утвержденных 26 марта 1876 г. «Правил для обучения строевой службе казаков приготовительного разряда Донского войска», которыми предписано было руководствоваться и в ККВ.
В соответствии с Правилами молодые казаки были должны:
-
– изучить упражнения по подготовке и порядок стрельбы из винтовки в цель на расстояние до 600 шагов включительно;
-
– усвоить сборку и разборку винтовки, а также знать правила ухода за оружием;
-
– руководствуясь первой частью «Устава о строевой казачьей службе», разобраться, что такое пеший и конный строи;
-
– на практике, в целях совершенствования наездничества и удальства, как это всегда было принято у казаков, уметь вскакивать и соскакивать в карьере с лошади, перепрыгивать с коня на коня, стрелять на скаку, доставать с земли различные предметы;
-
– знать и грамотно выполнять, в объеме знаний, обязательных для каждого нижнего чина, правила воинской дисциплины и воинского чинопочитания, а также обязанности часового1.
В начале 80-х гг. XIX в., в связи с принятием и распространением на ККВ нового «Положения о военной службе казаков Кубанского и Терского казачьих войск» (от 9 марта 1882 г.), вопросы подготовки казачьей молодежи к действительной военной службе были подробно детализированы. Немногим ранее для молодых казаков были введены приготовительные разряды. В зависимости от различия в строевой подготовке и будущего предназначения они стали подразделяться на пеших и конных. Эти шаги военного руководства призваны были решить две основные задачи:
-
• во-первых, улучшить качество раздельной военной подготовки и снаряжения казаков-кавалеристов и пластунов;
-
• во-вторых, более рачительно использовать и расходовать на эти цели казенные денежные средства2.
Еще одним важным элементом подготовки к военной службе была организация и проведение в станицах среди молодых казаков состязаний по стрельбе и наездничеству. Мероприятия эти имели огромное мотивирующее и воспитательное значение. На приобретение призов войско выделяло из своего бюджета значительные денежные суммы. Казаков-победителей награждали холодным и огнестрельным оружием, обмундированием и амуницией, конной упряжью. Лучший из лучших по результатам испытаний награждался особо ценным подарком – строевой лошадью. Призы были очень почетны и ценны для каждого победителя. Они стимулировали всех юношей станиц добросовестно изучать военное дело, а также приносили существенную экономию для каждой казачьей семьи, обязанной собирать казака на службу. О полученной молодым казаком награде его родные, соседи, одностаничники вспоминали еще долгое время, что также имело большое воспитательное значение и повышало авторитет казачьего рода3.
Безусловно, проводимые в 60–80-х гг. XIX в. в Российском государстве реформы, в том числе образовательная и военная, оказали большое влияние на все сферы жизни и военной службы кубанских казаков. В этот период глубокому реформированию подверглось и само Кубанское казачье войско – вторая по-боевому и численному потенциалу военно-административная структура в составе иррегулярных воинских формирований империи. Положительные результаты реформирования войска и станичных обществ, затронувшие вопросы нормативного регулирования и практической реализации задач в области подготовки к военной службе молодых казаков на рубеже 70–80-х гг. девятнадцатого столетия, несомненно, оказали непосредственное влияние на повышение его боевой эффективности. И ярким подтверждением этому послужили успешные действия русской армии, в составе которой отважно сражались представители Кубанского казачьего войска, в ходе Русско-турецкой войны (1877‒1878 гг.) и Среднеазиатских походов начала 80-х гг. XIX в.
Список литературы Некоторые аспекты подготовки к военной службе казачьей молодежи в Кубанском казачьем войске в 60-70-х гг. XIX в
- Бреэре И. Казаки: исторический очерк / пер. с фр. В.В. Каледина. М., 1992. 235 с.
- Есаул Дукмасов I. Современное обмундирование и вооружение казаков // Военный сборник. СПб., 1871. № 1. С. 203-223.
- Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870 гг. в России. М., 1952. 371 с.
- Никитин В.Ф. Казачество: нация или сословие? М., 2007. 640 с.
- Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: очерки края, общества, вооруженной силы и службы: в 2 ч., репринт. воспроизв. изд. СПб., 1858. Краснодар, 1998. 187 с.
- Соловьев Д.Н. Особенности одиночной подготовки казаков к военной службе // Военно-исторический журнал. 2011. № 10. С. 30-32.
- Толстов В.Г. История Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696-1896: в 2 ч. Тифлис, 1901. 237 с.
- Трехбратов Б.А. Жизненный путь и творческое наследие Ивана Диомидовича Попко // Материалы к библиографической реконструкции каталога личной библиотеки Ивана Диомидовича Попко. Книги из библиотеки И.Д. Попко в фонде Ставропольской краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова / под ред. А.И. Слуцкого, О.В. Кирьяновой. Краснодар, 2017. С. 6-21.
- Шахторин А.А., Потапов А.Е. Некоторые аспекты модернизации правовой регламентации организации и функционирования казачьих войск в конце 50-х-70-х гг. XIX в. (на примере Кубанского казачьего войска) // Общество: философия, история, культура. 2023. № 12. С. 277-284.
- Шпаковский А. Записки старого казака // Военный сборник. 1871. № 3-4. С. 323-346.
- Шуваев Д.С. Сущность главнейших военных постановлений казачьим войскам: Для казачьих юнкерских училищ: Дополнение к «Запискам Военной Администрации генерал-майора Лобко». Новочеркасск, 1881. 156 с.
- Maurice Н. The Cossacks. N.Y., 1945. 237 p. McNeal R.K Tsar and Cossack, 1855-1914. L., 1987. 262 p.