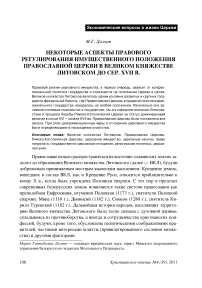Некоторые аспекты правового регулирования имущественного положения Православной Церкви в Великом княжестве Литовском до сер. XVII в
Автор: Долгая Мария Геннадьевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Экономические вопросы в жизни Церкви
Статья в выпуске: 4 (39), 2011 года.
Бесплатный доступ
Правовой режим церковного имущества, в первую очередь, зависит от конфессиональной политики государства и отражается на положении Церкви в целом. Великое княжество Литовское являлось одним из самых развитых и крупных государств феодальной Европы, где Православная Церковь в пределах многоконфессионального государства находилась на особом положении. Изначально она занимала ключевые позиции как в государстве, так и в народном сознании. Впоследствии в процессе борьбы Римско-Католической Церкви за статус доминирующей религии в конце XVI – начале XVII вв. Православная Церковь была поставлена вне закона. При этом дискриминационные меры в отношении церковного имущества были определяющими в насаждении униатства.
Великое княжество литовское, православная церковь, римско-католическая церковь, церковное имущество, церковные каноны, право патроната, государственно-церковные отношения, религиозная политика, церковная уния
Короткий адрес: https://sciup.org/140189924
IDR: 140189924
Текст научной статьи Некоторые аспекты правового регулирования имущественного положения Православной Церкви в Великом княжестве Литовском до сер. XVII в
В научной литературе встречаются различные версии образования ВКЛ. Авторы советского периода, а также литовская историческая наука отмечают, что княжество было образовано благодаря ускоренному развитию феодальных отношений на территории восточной части современной Литвы, а белорусские земли пассивным образом вошли в его состав. Советская идеология содержала тезис о подвластности белорусского и украинского народов литовцам-завоевателям 1 . Другой умеренной концепцией утверждается, что образование ВКЛ имело в своей основе не военную силу, а процессы постепенной социальноэкономической и политической консолидации 2 . Обоснованной представляется теория о том, что белорусские и украинские земли также играли активную роль в процессе создания ВКЛ и являлись ядром его образования 3 . Важно отметить, что нельзя отождествлять наименование «литовский» с Литвой в современном понимании, так как историческая Литва и современная Литва имеют различные географические пределы. Так, до начала 20 в. литвинами или литовцами называли жителей как восточнославянских, так и балтских земель: Гродненщины, Новогрудчины, Виленщины и западной части Минщины 4 . При этом необходимо определиться с терминологией в области наименований. Важно различать поли-тонимы «Литва», «литвины», «литовцы» и этнонимы, связанные с наименованием «литовский». Политоним «Литва», «литвины» охватывает б о льшую территорию, нежели этноним «литовцы». Последних можно отождествлять с современным литовским этносом. Ускорению процессов консолидации способствовала необходимость объединения военных сил в борьбе с крестоносцами и монголо-татарами. Необходимо отметить, что угроза со стороны немецкого ордена, который стремился особо жесткими военно-политическими средствами основать рыцарское государство, содействовала сплочению язычников и православных;
Постепенная консолидация земель имела в основном добровольный характер, основываясь на договорных отношениях между великими князьями литовскими и местными феодалами, которые с середины XV – начала XVI вв. закреплялись областными уставными грамотами. Данные грамоты содержали основной принцип внутригосударственных отношений, в соответствии с которым в каждой области сохранялись местные льготы, привилегии и самоуправление («мы старины не рухаем, а новины не вводим» 7 ).
Процесс образования одного из крупнейших государств Восточной Европы эпохи Средневековья — Великого княжества Литовского, Русского, Же-мойтского и других земель — был сложным и длительным по времени. Окончательно территориальные границы Великого княжества установились к началу XV в., когда Витовт смог захватить и присоединить к своим владениям и Смоленское княжество. Они простирались от Балтийского до Черного морей с севера на юг, от Брестчины до Смоленщины с запада на восток. Таким образом, ВКЛ стало крупнейшим государством Восточной Европы. Великие князья Литовские, такие как Гедимин, Ольгерд и Витовт, будучи православными, осуществляли политику собирания Русских земель, что порождало сложные отношения с Московским государством.
В области культуры объединение литовских и белорусских земель постепенно приводило к ассимиляции собственно литовского этноса. Многие литовские князья принимали православие и обрусевали, продолжали действовать правовые нормы, восходящие к Русской правде. До времени крещения «Литвы» в католическую веру (1387 г.) 56 литовских князей были православными 8 . По некоторым летописным сведениям, сын первого Великого князя Литовского Миндовга Войшелк явился одним из основателей Лавришевского монастыря (где подвизался преподобный Елисей Лавришевский (1250 г.)), отдельные историки утверждают, что именно Войшелк принял постриг с именем Елисей.
В ВКЛ статусом государственного обладал старобелорусский язык, что было обусловлено преобладанием славянского населения над балтским в объединенном балто-славянском государстве 9 . Распространению русской культуры и укреплению православия в Литве, особенно в крупных городах, способствовало большое количество мастеровых и торговых людей, являвшихся представителями русского этноса. Во времена великого князя Гедимина их было настолько много, что писатели хроник называли Вильно «Русским городом» (civitas Ruthenica) 10 . Во время посольской поездки немецкого графа Конрада Кибурга к великому князю Витовту в 1397 г. он отмечал, что «литовской письменности нет» в противоположность русской. Русской письменности молодежь обучалась в основном в школах при православных церквях и монастырях. Впоследствии значительный вклад в развитие просветительской деятельности внесли братства, их типографии и школы. Последние были открыты в Вильне (ок. 1584 г.), Могилеве (1590 г.), Бресте (1591 г.), Минске (1612 г.) и других городах. Еще до образования ВКЛ на земли восточных славян проникают религиозные произведения на церковно-славянском языке, функционирование которого в пределах ВКЛ привело к возникновению его белорусского извода. Формированию белорусского варианта церковнославянского языка способствовал известный деятель белорусского просвещения, первопечатник, ученый-медик Франциск Скорина, который в 1517 г. основывает в Праге типографию и издаёт кириллическим шрифтом «Псалтирь», первую печатную белорусскую книгу. Отметим для сравнения, что основоположником книгопечатания на Руси был Иван Федоров (выходец из Великого княжества Литовского, г. Львов), который
1 марта 1564 г. выпустил в Москве книгу «Апостол». Кроме того, Ф. Скори-на предложил образовательную программу, разработанную в Древней Греции (систему «Семи свободных наук»), которая использовалась в образовательной деятельности братских школ Беларуси и Украины. Предполагается, что Ф. Ско-рина был также одним из разработчиков первого Великокняжеского Статута (1529 г.).
Великокняжеские Статуты (1529 г., 1566 г., 1588 г.) синтезировали в себе самые передовые достижения европейской правовой науки. Статуты были написаны на старобелорусском языке, и, являясь кодифицированными нормативноправовыми актами высшего уровня, были призваны унифицировать нормы, содержавшиеся в разрозненных правовых источниках. Примечательно, что нормы Статутов были сгруппированы в разделы по отраслевому признаку: конституционное, гражданское, уголовное право, судебное устройство и делопроизводство, а также природоохранное право. Очень важным явилось закрепление Статутом 1588 г. государственного суверенитета ВКЛ, что наряду с другими факторами сохраняло государство от подчинения Польше. Можно отметить, что в целом Статуты во многом опережали свое время, поэтому некоторые принципиальные положения (например, о правовом равенстве всех подданных государства) не реализовывались на практике, так как не соответствовали реалиям феодального периода. Отметим, что Статут 1588 г. многажды переиздавался в XVII, XVIII и XIX вв. на русском и польском языках, и на некоторых территориях действовал долгое время после распада ВКЛ до 1840 г. (для сравнения — первым конституционным актом во Франции, провозгласившим равенство всех перед законом была Декларация прав человека и гражданина, принятая в 1789 г.).
Как указывалось выше, православие играло существенную роль в судьбе Великого княжества Литовского. Активно участвуя в духовном просвещении народа, православие глубоко проникло в сознание различных слоев населения и в течение длительного времени его исповедовало большинство.
Не претендуя на политическую власть, Православная Церковь, тем не менее, принимала участие в делах государства, в частности, в международных отношениях. Так, договорную грамоту о мирных отношениях между Полоцком и Ригой 1229 г. от имени Полоцка писал полоцкий епископ. Последний участвовал в вечевых собраниях и входил в состав княжеской рады. Православные священнослужители выступали в качестве послов и парламентариев; в полоцком Софийском соборе хранились серебряный и золотой запасы княжества, дипло- матическая документация, печати главных служебных особ и большая вечевая печать11. Православная Церковь в лице епископов обладала судебной юрисдикцией и имущественным иммунитетом. Кроме того, представители Православной Церкви (иерархия, а также верующие из среды шляхты) обращались к государственной власти (Великому князю) не с целью получения привилегий, но с просьбой об охранении прав Церкви.
Исторически сложилось, что статус церкви в государстве всегда находился в зависимости от модели государственно-церковных отношений, принятой в государстве. Государственно-церковные отношения в Великом княжестве Литовском были далеки как от восточной, так и западной моделей соотношения государственной и церковной властей, так как ВКЛ находилось на стыке восточной и западной цивилизаций. Именно особенности геополитического положения обусловили судьбу как княжества, так и Православной Церкви.
В первую очередь это связано с постоянными попытками присоединить ВКЛ к Польше вплоть до государственного, религиозного и культурного поглощения. С одной стороны, Польское государство было заинтересовано в присоединении столь могущественного и обширного по территории государственного образования, с другой стороны, Княжество могло стать плацдармом для осуществления папских притязаний по продвижению католичества на восток. Начиная с 1385 г., момента заключения династического союза между Польшей и ВКЛ путем подписания Кревской унии 12 , римский католицизм получил статус доминирующей религии в государстве, благодаря политическим расчетам Великих князей литовских. С тех пор Православная Церковь начала терять политический вес.
В среде высшего сословия ВКЛ католичество именовалось «вера пан-ска», а православие, и впоследствии униатство (несмотря на дарование униатам некоторых привилегий), — «вера хлопска». Изначальное стремление римско-католического духовенства узурпировать религиозную сферу породило ситуацию постоянного межконфессионального конфликта, явившегося одним из главных факторов как внутренней, так и внешнеполитической нестабильности. Даже с распространением влияния Реформации в Великом княжестве власть в основном оставалась на стороне Римско-Католической Церкви, несмотря на усиление духа веротерпимости в государстве, нашедшем впоследствии отражение в законодательстве (акт Варшавской конфедерации 1573 г.18 и др.). Отметим при этом, что большинство норм о веротерпимости носили скорее декларативный характер. Так, уже в 1596 г. под покровительством государственной власти была заключена Брестская церковная уния19, поставившая Православную Церковь вне закона до 1632 г.20, межконфессиональная ситуация существенным образом ухудшилась, постепенно приводя государство (наравне с другими факторами) к фактическому распаду в конце XVIII в. Православие исповедовало большое количество населения и в случае притеснений оно время от времени обращалось за помощью к Московскому государству, которое нередко вмешивалось во внутреннюю политику ВКЛ.
В то же время Великие князья, особенно в XIII–XV вв., как уже указывалось, часто отдавали предпочтение той или иной конфессии в интересах политики, причем даже ревностные князья-католики не всегда следовали своим религиозным устремлениям, а брал верх политический расчет, поэтому униональные тенденции не всегда носили последовательный характер. Так, вследствие постоянного противостояния православной шляхты и духовенства, требовавших восстановления правового равенства и отмены религиозной дискриминации, монархи Великого княжества Литовского шли на уступки, уравнивая православных и католиков в гражданских и отчасти в политических правах. Имело место и фактическое неисполнение законодательных запретов. Так, примерно в 1422 г. был издан акт, запрещавший строить новые каменные церкви некатолического обря-да 21 , ав 1480 или 1483 гг. также издается указ, запрещающий некатоликам, в том числе и православным строить новые и ремонтировать старые церкви на государственных землях 22 . Однако, Великий князь и Король Казимир IV, издавший указ о запрете строительства церквей, благосклонно относился к православным. Известно около десятка церквей, построенных в годы его правления, включая и ныне существующий Свято-Успенский Жировичский монастырь 23 .
Необходимо отметить, что в городах с Магдебургским правом существовало равное правовое положение православных и католиков в области городского управления.
Магдебургское право — система городского права, сложившаяся в XIII в. в немецком городе Магдебурге и регулировавшая экономические, гражданско-правовые и другие отношения горожан, и предоставлявшая право на самоуправление. В XIII–XVIII вв. распространилось в Польше и Великом княжестве Литовском, будучи привнесенным немецкими купцами и ремесленниками, которые селились в крупных городах. Магдебургское право освобождало от многочисленных феодальных повинностей, заменяя их на единый денежный налог. Грамоты на Магдебургское право были даны таким белорусским городам, как
Минск (1499), Брест (1390), Гродно (1391), Слуцк (1441) и некоторым другим городам. Всего с XIV по XVIII вв. на территории ВКЛ Магдебургское право получили более ста городов. Так, согласно грамоте на Магдебургское право Минск получал право на формирование независимых органов самоуправления.
В городах с Магдебургским правом население церковных юридик 24 освобождалось от повинностей и податей в пользу магистрата. В случае, когда городская администрация стремилась подчинить себе церковных людей в экономическом плане Великий князь становился на сторону Церкви, указывая на давность обычая имущественного иммунитета Церкви: «нехай бы тые люди церковные мешкали по старому в присуде и послушенстве церковном» 25 . Церковные юридики находились как на территории великокняжеских городов, так и частновладельческих. В последних церковные юридики занимали небольшой удельный вес, так как создание юридик на частновладельческих землях жестко регулировалось собственником (шляхтой). Так, в Слуцке в 1689 г. церковные и монастырские юридики составляли 3,9% 26 ; по данным ревизии Бреста (нечастновладельческий город) за 1566 г. церковные юридики составляли 23,4%, из них 6,2% православная 27 .
Несмотря на ограничения имущественных прав Православной Церкви и поддержку католичества государственной верхушкой, как указывалось, православные церкви и монастыри по количеству превышали католические.
Необходимо отметить, что статус религиозной организации в государстве и его имущественное положение взаимозависимы. Многовековая политика присоединения Православной Церкви ВКЛ к Римскому престолу посредством постепенного насаждения униатства имела своей целью лишить Православную Церковь храмов и земли, пытаясь вынудить население таким образом обращаться за требоисполнением к униатам28. Рассмотрим некоторые аспекты правового регулирования имущественного положения Православной Церкви в ВКЛ, исхо- дя из основных канонических требований и канонического определения понятия «церковное имущество».
По церковным канонам лицо, делающее взнос на церковь, приносит жертву Богу. В канонах используются такие понятия, как имущество, «принадлежащее Богу» (38-е Апостольское правило)29, «стяжание Господне» (41-е правило Карфагенского Собора)30, «имение Господне» (40-е Апостольское правило)31. Данные выражения также говорят о назначении имущества. В ВКЛ прослеживается идея принадлежности церковного имущества Богу в жалованных грамотах в пользу Церкви. Например, в отказной записи Киевскому Пустынскому Николаевскому монастырю в качестве субъекта дарения назван святой: «…за-писали и дали есмо вечно и непорушно святому великому архиерею чудотворцу Христову Николе к Пустынскому монастырю…»32. Фактически же субъектом церковно-имущественных прав является конкретный монастырь (церковь, епископия), а епископ, либо священник, являлся не носителем имущественных прав и обязанностей, а лицом, управляющим церковным имуществом в интересах Церкви как представитель учреждения. Кроме того, часто устанавливался запрет на отчуждение данного имущества со стороны родственников дарителя: «не вступаться ни детям моим, ни внукам, ни всему роду на веки»33. Каноническое право традиционно разделяет церковное имущество на: 1) вещи священные (здания храмов, напрестольные вещи и т.п.); 2) вещи освященные (часовни, кладбища и др.); 3) иные предметы, являющиеся церковной собственностью (постройки, земли хозяйственного назначения)34. Имущество, относящееся к первым двум категориям, обладает особым правовым режимом. По каноническим предписаниям оно должно оставаться церковным навсегда, то есть изымается из гражданского оборота. Процедура отчуждения церковного имущества устанавливается канонами лишь по отношению к имуществу небогослужебного назначения (как правило, это касается земельных угодий)35. В Великом княжестве Литовском юридически имелись предпосылки соблюдения принципа неотчуждаемости церковного имущества, однако, на практике многое зависело от религиозных убеждений Великого князя и шляхты как патронов церковных учреждений, а также нравственных качеств самого духовенства и, в частности иерархов, а также от межконфессиональной ситуации в государстве. В Великом княжестве Литовском принцип неотчуждаемости церковного имущества сохранялся посредством обычая. Затем, в период централизации великокняжеской власти и сосредоточения полномочий, в том числе и относительно земель в руках князя, Православная Церковь стремилась оградить свою имущественную независимость посредством включения в областные грамоты норм о невмешательстве государственной власти в церковные дела и доходы. Великие князья при вступлении на княжение или во время своего правления выдавали грамоты, подтверждавшие права Церкви на имущество и содержавшие обещание не уменьшать их и «ничим ся не вступовати». В 1588 г. была издана сеймовая конституция36, содержавшая специальную норму, о том, что имущество, отчужденное с нарушением интересов Церкви, могло быть истребовано у незаконных владельцев с правом оставления им данных имений в пользование до смерти37. Данная конституция распространялась и на имущество «Греческой» (Православной) Церкви.
Для фактического соблюдения принципа неотчуждаемости церковного имущества был необходим, в первую очередь, действенный контроль за управлением церковным имуществом со стороны священства в соответствии с церковными канонами. Сделки по отчуждению должны были производиться на соборных началах. В Великом княжестве выражением соборного начала было, в частности, существование собора крылошан, то есть собора священнослужителей. Обычно в монастырях функцию контроля выполняла братия и эконом, или «шафарий»; в городах — церковный клир и городская община (например, русская лавица Виленского магистрата); на приходах — настоятель, староста и приходская община. К концу XVI в. с усилением роли братств их юрисдикция также распространялась на некоторые монастыри и церкви, основанные ими либо подчиненные им фундаторами (основателями). Необходимо отметить, что братства, известные своей деятельностью с конца XV в. особую активность проявили в конце XVI–XVII вв., будучи главными защитниками Православия с момента заключения Брестской церковной унии в 1596 г. Некоторые из братств, в частности Львовское Успенское, Виленское Свято-Духовское, Могилевское Богоявленское, Луцкое и некоторые др. были возведены Константинопольскими Патриархами в степень своих ставропигий и изъяты из ведения местных епископов. Уставами ставропигиальных братств, утвержденными Патриархами, в частности Луцкого братства, право распоряжения недвижимым имуществом закреплялось за светскими братчиками, шляхтой и мещанами38. Для получения легального положения в государстве братские уставы должны были утверждаться великими князьями, которые давали братствам право свободно распоряжаться движимым и недвижимым имуществом с указанием никому из духовного и светского звания не вмешиваться в имущественные отношения братств39.
Кроме того, церковное имущество было неделимым в силу того, что не передавалось по наследству, в отличие от имущества князей и шляхты. Подтверждением неделимости церковного имущества служат факты, когда в случае наследования права опеки (патроната) над церковным учреждением наследники не указывали долей в имуществе, а определяли нескольких патронов на одно церковное учреждение. Однако в практике Великого княжества Литовского можно найти обратные прецеденты.
Правовой режим церковного имущества в Великом княжестве Литовском определялся с учетом: 1) его отграничения от светского; 2) его принадлежности к церкви определенной конфессии («Греческой веры»). Такой подход постепенно получал закрепление в законодательстве, однако его практическое осуществление находилось в зависимости от воли Великого князя, а также добросовестности духовенства.
Определение принадлежности имущества церкви той или иной конфессии являлось важным аспектом правового регулирования церковного имущества в изучаемый период, так как нередко имущество, сохраняя статус церковного, передавалось в руки представителей другой конфессии (католичество, кальвинизм, униатство), что неизбежно порождало конфликты. Норма, непосредственно регулировавшая вопрос принадлежности имущества, была принята на Варшавской конфедерации 1573 г., установившей свободу совести. Пунктом 4 данной конфедерации утверждается следующее: «бенефиции костелов Греческих людям той же Греческой веры должны даваться» 40 . Бенефициями считалось церковное недвижимое имущество, а также церковные должности, с которыми были связаны права на недвижимое имущество и доходы с них 41 . Однако данная норма строго не соблюдалась. Нередко над правом преобладали политические и религиозные взгляды великих князей литовских и королей Речи Посполитой. Так, Стефаном Баторием были отданы под иезуитскую коллегию здания монастыря Марии Магдалины в Риге 42 , а также в 1583 г. королевской грамотой Стефан Баторий передал полоцким иезуитам три села, принадлежавших Воскресенскому и Спасскому православным монастырям, чем была нарушена вышеуказанная норма Варшавской конфедерации, а также нормы канонического права Православной Церкви. Таким образом, высшая власть, охраняя Церковь от светского вмешательства, игнорировала норму о принадлежности имущества той или иной конфессии, что негативно отражалось на состоянии правопорядка и межконфессиональной ситуации.
Необходимо отметить, что на территории Княжества как государства, в котором были широко распространены шляхетские вольности (особенно когда оно было частью Речи Посполитой) власть Великого князя относительно церковного имущества простиралась только в пределах королевских имений. В шляхетских имениях решение всех вопросов было предоставлено личному усмотрению владельца. Крупная шляхта была настолько независима, что магнат мог проигнорировать несоответствующие его воле решения поветовых, либо воеводских, сеймиков и запретить их исполнение на территории своей латифун- дии43. Однако, защита церковного имущества (от перехода в руки духовенства иного вероисповедания) не была обеспечена твердыми гарантиями. Дарственные грамоты (фундушевые записи) шляхты, как правило, содержали в себе условия хранения Православной веры клиром (братией) одаряемой или основываемой церкви (монастыря) и подчинения ее Константинопольскому Патриарху. При этом единственной санкцией в случае нарушения данного условия являлась аппеляция к совести — «розсудит с нами на Страшном Суде», так как другие виды ответственности (денежная), закрепленные нормативно, часто имели номинальный характер в различных религиозно-политических ситуациях в Княжестве (великокняжеские грамоты 1499 г., 1511 г. и др).
В целом религиозные учреждения различных конфессий в ВКЛ пользовались относительной свободой в правовом и экономико-правовом (освобождение от уплаты налогов, за исключением несения земской службы и других военных повинностей) плане. Анализ нормативно-правового регулирования церковноимущественных отношений в Великом княжестве Литовском не выявил, в отличие от западно-европейских государств, а также России, тенденции к секуляризации церковного имущества.
В великокняжеском законодательстве узаконений относительно имущественных отношений было немного (о назначении на должности, связанные с церковным имуществом, лиц, принадлежащих к соответствующей конфессии, о неотчуждаемости церковного имущества, о порядке судопроизводства между светскими и духовными лицами (Статут 1588 г.) и др.). Церковно-правовые нормы, касавшиеся Православной Церкви в Великом княжестве Литовском можно подразделить в зависимости от их уровня (Вселенский, общегосударственный, областной), а также от компетенции издававшего органа (церковного — Вселенские, Поместные Соборы; государственного — Великий князь, сейм). Кроме того, некоторые из этих отношений регулировались обычным правом.
В первую очередь, следует остановиться на особенностях так называемого «права патроната», которое во многом определило специфику церковноимущественных отношений в ВКЛ. Содержание данного права не регулировалось законодательством государства, а формировалось на основе обычая. Не имея законодательных ограничений и четких требований к содержанию, данное право нередко подвергалось влиянию различных религиозных и политических факторов, что вело к многочисленным злоупотреблениям.
Право патроната («подаванья», jus patronatus), то есть система правомочий лица по опеке церковного учреждения (церкви, монастыря) в Великом княжестве Литовском имеет некоторое сходство с ктиторством в восточнохристианской традиции (однако, в течении XVI в. приобретает признаки, приближающие его к праву патроната западного образца).
Можно выделить два основных вида данного института: право патроната Великого князя и частное право патроната. Право патроната Великого князя вытекало из того положения в Великом княжестве Литовском, при котором он являлся верховным собственником всех «добр земских», и включало в себя права по назначению на церковные должности и передаче церковного имущества во владение духовных лиц либо шляхте (на праве частного патроната). Частное право патроната, как правило, состояло в опеке над церковным учреждением, находящегося во владениях шляхты. Как правило, в таких случаях данное право переходило по наследству. С одной стороны, история хранит немало фактов, когда Великий князь, как патрон, действительно осуществлял защиту церковного имущества (главным образом, от светских посягательств), в том числе и на общегосударственном (сеймовом) уровне44. С другой стороны, действия Великого князя нередко наносили ущерб интересам Православной Церкви в силу светского мышления великого князя либо ревностной приверженности его к католичеству или иной конфессии. Например, раздача епископских мест за воинские или иные заслуги перед государством45, когда пожалование приобретает полностью светский характер и лишается признаков, вытекающих из права «подавания», либо назначение на духовные должности лиц, недостойных этого звания. В Великом княжестве Литовском частные патроны имели следующие основные полномочия: 1) судебные функции; 2) назначение духовной власти (например, при пожаловании королеве Елене Иоанновне Виленского Троицкого монастыря в «поданье» король установил для нее право «обирати архимандрита тому монастырю и подавати тому, кому будет воля ее милости; а нам ся в то, ни митрополиту не вступати…»46, а также утверждение уставов монастырей; 3) правомочия относительно церковного имущества (как правило, материальное обеспечение и контроль за целостностью церковного имущества; а также право пользования доходами и церковным имуществом со стороны патронов-духовенства). Таким образом, основными функциями опекуна были благотворительная, охранительная, контрольная и судебная функции.
При основании церковного учреждения фундатор (благотворитель) передавал весь круг полномочий собственника данному учреждению «…со всем правом и панством» 47 . Таким образом, субъектом прав становится Церковь. Следовательно, патрон не обладает правомочиями собственника. Тем не менее, патроны нередко фактически могли влиять на судьбу церковного имущества, что противоречит требованиям канонического права. Так, в случае перехода шляхетского рода в протестантизм либо католичество, соответственно изменялась и конфессиональная принадлежность церковного учреждения, находящегося в частных владениях. Данная ситуация также являлась следствием того, что на территории Великого княжества Литовского Церковь юридически не являлась единым субъектом гражданского права. На законодательном уровне в формулировке норм, касавшихся Православной Церкви, а также церковного имущества, содержались такие словосочетания как «религия Греческая», «люди Греческой веры», которые после введения униатства применялись и к Униатской Церкви.
Православная Церковь в Великом княжестве Литовском пыталась бороться против негативных проявлений светского начала права патроната на Виленском соборе 1509 г., однако, в целом признавала данный институт. На указанном церковном соборе были приняты некоторые меры против злоупотреблений со стороны патронов (запрещено отнимать церковное имущество, а также лишать церковной должности со стороны патрона «без нашего ведома Святительского», то есть собора епископов и митрополита).
На общегосударственном уровне в области церковно-имущественных отношений на протяжении XV–XVI вв. принимались как благоприятные, так и дискриминационные нормы. Так, в 1447 г. выдан общеземский привилей, которым подтверждались права церковных учреждений на имущество без конфессиональных различий. В 1499 г., а также 1511 г. Великими князьями на основании «Свитка Ярослава» были выданы грамоты о неприкосновенности епископского суда и церковного имущества. Данными грамотами была сделана попытка частичного ограничения светского вмешательства, в том числе и в церковноимущественные дела. В частности, «Свиток Ярослава» содержал санкцию, состоящую в лишении шляхты права «подаванья» (патроната) при вмешательстве в церковные дела. В 1568 г. на сейме была удовлетворена просьба православного митрополита об утверждении нормы, в соответствии с которой светские лица по получении духовной должности (а также церковных имений) должны были принять духовный сан в течение трех месяцев. Кроме того, была закреплена норма о возврате когда-либо отобранного у церкви имущества48.
В Статут 1588 г. также была включена норма Варшавской конфедерации о свободе совести, благодаря которой на Православную Церковь распространялись нормы, регулировавшие церковные, в том числе имущественные отношения. Кроме того, в Статуте содержался термин церковное имущество, а также регламентировалась подсудность имущественных споров между светскими и духовными лицами (как представителями церкви). Проводилось различие между имуществом Церкви и личным имуществом духовенства. Из содержания норм Статута можно также сделать вывод о том, что по законодательству Великого княжества Литовского Церковь не отвечала своим имуществом по личным долговым обязательствам духовенства. В 1589 г. Сигизмундом III была выдана грамота всему духовенству государства о неприкосновенности церковного имущества в период вакантности митрополичьей, епископской кафедр, а также настоятельских мест в монастырях и церквях по примеру Римско-Католической Церкви.
Среди дискриминационных норм в отношении имущества, как уже указывалось, были грамоты, запрещавшие строить и ремонтировать церкви на государственных землях.
На областном уровне Православная Церковь также стремилась оградить свою имущественную независимость посредством включения в областные гра- моты49 норм о невмешательстве государственной власти в церковные дела и доходы. Подобные нормы встречаются в большинстве областных грамот. Так, в Полоцкой грамоте от имени Великого князя утверждается: «Напервей, в церкви Божьи и в именья церковные нам не вступатися»50.
Церковные постановления (вселенского и местного уровня)
Основным источником норм канонического права в Великом княжестве Литовском, как и Московском государстве, была Кормчая книга.
Одним из канонических правил, касающихся церковного имущества, является запрет на строительство церквей без благословения епископа. Соблюдение данной церковной нормы в Великом княжестве было гарантировано государством.
В Православной Церкви Великого княжества Литовского также действовали постановления местных соборов, из которых самым значимым в отношении церковного имущества был уже упоминавшийся Виленский Собор 1509 г. На нем были приняты нормы, регулировавшие право патроната, а также закреплявшие принцип соборности, признавалось также право избрания священника со стороны шляхты на территории их землевладений. Митрополит и епископы назначали священника в случае неназначения его со стороны шляхты. К сожалению, такое положение приводило к укоренению в сознании шляхты понятия о господстве на своих землях и в делах веры.
Основным источником формирования церковного имущества было пожертвование в форме дарения или завещания земель, недвижимости, а также других имущественных вкладов на помин души. Регистрация имущественных пожертвований в пользу Церкви с начала ее появления на восточно-славянских землях, как правило, производилась путем осуществления вкладных записей на страницах священных книг (в напрестольное Евангелие), хранящихся в одаряемой церкви или монастыре. Фундушевые 51 грамоты также регистрировались в судебных актовых книгах. Обычай записывать дарственные на страницах св. Евангелия просуществовал до 1589 г.
Дарение осуществлялось, как правило, со стороны православной шляхты, редко — монархов (Великих князей), так как они более заботились о Римско-Католической Церкви. Тем не менее, по количеству церквей и монастырей Православная Церковь была на первом месте, хотя Католическая Церковь была самым крупным земельным собственником. Правовая способность Церкви приобретать недвижимость постепенно расширялась, однако дополнялась при этом условием выполнять военную повинность (обязанность выставить определенное количество экипированных воинов в соответствии с количеством земельных наделов). Так, Статутом 1588 г. совершение завещаний в пользу Церкви было обусловлено обязанностью несения так называемой земской службы.
Возможность приобретения имущества Церковью, в том числе и по завещанию, зависела от видов имущества по гражданскому праву. Распоряжение недвижимым имуществом зависело от его правового режима («купленина», «выслуга», «отчизна», «вечистое держание», «держание»).
К наиболее стабильным видам недвижимости относились «купля» и «вотчина». В соответстви со Статутами, наибольшими правами распоряжения недвижимостью обладали владельцы «купленины». Единственным ограничением являлась необходимость получения разрешения великого князя на определенное распоряжение. Такое разрешение требовалось для всех видов имущества.
Вотчина являлась наследственным родовым имением, в отношении которого предусматривались широкие права владельца.
Существовали также условные землевладения, к которым относились «выслуга» и «держания». Право распоряжения выслугой зависело от условий ее пожалования. Так, в Киевских областных грамотах (1507, 1529 гг.) отмечалось, что выслугу можно продать, подарить, обменять или передать Церкви в случае, если права на распоряжение оговорены в подтвердительной грамоте. «Держания» давались высшей властью владельцу на определенный период, либо до его смерти («до воли и ласки господарской», «до живота», «до двух животов» и т.п.). На практике такие владения постепенно переходили в разряд «вечистого держания» (переходная форма пожалования, которое получалось с условием несения земской службы и переходило по наследству только по мужской линии). Право распоряжаться условными и «вечистыми» держаниями всецело зависело от усмотрения верховной власти. В архивных документах встречается разрешение отдать имущество в пользу Церкви. Исследователь В.С. Менжин- ский на основе анализа книг записей Литовской Метрики делает вывод о зависимости вида землевладения от религиозной политики Великого князя. Так, в отличие от шляхты католического исповедания, у православной шляхты, оказывающей поддержку Православной Церкви (Полубенских, Жеславских, Острож-ских, Четвертинских и др.) выше удельный вес условных землевладений52.
Среди ограничений по приобретению земельной собственности были ор-динации 53 . Так, в 1569 г. на Люблинском сейме 54 была установлена ординация великокняжеских имений: «роздаванье вечностью добр столу нашого» без разрешения сейма запрещено 55 . Это постановление касалось и Церкви.
После заключения Люблинской унии 1569 г. также появились шляхетские ординации. Они учреждались в крупных имениях шляхты с тем, чтобы закрепить их неделимость и таким образом защитить их от уменьшения и упадка. Таким образом, Церковь не могла приобретать имения, состоявшие в ординациях. Так, в 1623 г. постановлением Главного суда (Трибунала) Альбрехту Радзивиллу было присуждено имение Цепра, ранее записанное на монастырь Константином Долматом, не имевшим на это права, так как сеймовым постановлением 1589 г. данное имение было утверждено как часть ординации Радзивиллов 56 .
С принятием Статутов все более расширяется право собственности шляхты на землю. В XVI в. также наблюдается тенденция увеличения объема шляхетских землевладений, в результате чего улучшается и экономическое положение шляхты. Если в конце XIV в. 80% населения находилось во владениях Великого князя, то к середине XVI в. осталось только 30%, а собственность шляхты увеличилась приблизительно до 65%57. Экономическое усиление шляхты имело по- ложительное значение для Православной Церкви, так как основным источником формирования ее землевладений были шляхетские пожалования в дар, либо по завещанию. Но ситуация вновь изменилась с распространением на территории Великого княжества Литовского Реформации, потом с активизацией контрреформации, когда крупные магнаты и шляхта в большинстве своем перешли в протестантизм и католичество, а после заключения Брестской церковной унии — в униатство. С расширением межконфессиональной борьбы в конце XVI – начале XVII в. поддержка православия, в том числе экономическая, со стороны шляхты уменьшилась.
Другими источниками формирования церковного имущества были покупка, мена, приобретение имущества в порядке наследования. В Великом княжестве Литовском Православная Церковь активно участвовала в отношениях по наследованию в определенных пределах.
Завещательная способность жителей Великого княжества Литовского (главным образом, шляхты) ограничивалась родовыми, служебными (государственными) интересами и статусом имущества. Как правило, большая масса имущества жаловалась путем завещательных отказов монастырям, так как верующие стремились быть погребенными после смерти в пределах монастырской ограды и обеспечить себе, таким образом, поминовение души и лучшую участь в мире ином.
По законодательству Великого княжества выморочное имущество58 являлось собственностью государства. Церковь могла претендовать на такие имения в общем порядке, то есть в случае пожалования Великим князем. По кадуково-му праву (регулировавшему отношения, связанные с выморочным имуществом) Церковь вступала во владение только тем выморочным имуществом, которое принадлежало крестьянам, находившимся под ее юрисдикцией, а также монахам. Исключение составляло имущество, приобретенное до поступления в монастырь, которым постриженники должны были распорядиться заранее. Так, в жалованной подтвердительной грамоте Киевскому Печерскому монастырю содержится положение о переходе имущества умершего монаха в монастырскую казну: «…А который чернец умрет, и зостанет ли ся што по нем пенязей и стат-ку, то мает по животе его взято быти на полату…»59.
Следует обратить внимание на то, что законодательство Великого княжества, в частности статутовое, приравнивало монашество к гражданской смерти или, по крайней мере, относило монашествующих к лицам, которые ничем не владеют свободно. Среди лиц, лишеных способности составлять завещания, закон называл и монахов (Статут 1588 г., раздел VIII, ст. 1). В данном случае можно говорить о рецепции светским правом церковных установлений. От простого монашеского звания отличался статус епископа как лица, наделенного властными полномочиями, а потому обладавшему в соответствии с церковными канонами определенным набором прав. В частности, епископ мог оставить за собой имущество, приобретенное до епископской хиротонии путем составления описи этого имущества с целью отграничения его от церковного имущества.
По законодательству ВКЛ Православная Церковь не являлась единым субъектом вещных прав в лице митрополита или собора епископов. Церковные учреждения (монастыри, церкви, братства) осуществляли свои гражданско-правовые отношения в соответствии с правом государства, не всегда основывая свои действия на нормах канонического права, игравшего роль объединительного, централизующего церковного начала. Исходя из фактически сложившихся отношений, употребляя современную терминологию, необходимо отметить, что правами юридического лица обладали только отдельные церковные учреждения: митрополия, епископии, монастыри, приходы, соборные церкви, братства. Это говорит о децентрализации имущественных полномочий Православной Церкви в Великом княжестве Литовском, что вело к многочисленным нарушениям церковных канонов.
Кроме того, нередко в церковных делах участвовал мирской элемент в лице братств, городского магистрата, вступавших в конфликт с канонически установленной компетенцией церковной иерархии (исторически такое положение оправдывалось положительной деятельностью мирян в противовес отдельным недостойным иерархам).
В документах наиболее часто встречающимися сделками с церковным имуществом являются обмен, «застава» (передача церковных земель в залог в обеспечение долговых обязательств), аренда (так называемое «вечное чиншевое владение» — сдача земли в пожизненную аренду с условием внесения определенной платы в казну церковного учреждения в натуральной60 или денежной форме), редко — продажа. Сделками по отчуждению являлся обмен и продажа. Однако, такие сделки как застава и пожизненная аренда (чиншевое владение) также могли стать причиной отчуждения церковного имущества, в первую очередь, вследствие недобросовестности владельца, так как земли фактически выходили из-под постоянного контроля со стороны церковной администрации. Следует отметить, что в документах, как правило, встречается указание на причину отчуждения или иного распоряжения, в частности на бездоходность и крайнюю нужду в денежных средствах, что соответствует требованиям канонических норм. Кроме того, при совершении сделок с монастырским имуществом или имуществом какой-либо церкви, участниками их являлся собор уполномоченных лиц (игумен с братией и боярами, крылошане соборной церкви и т.п.). Так, при совершении заставы церковных земель, принадлежавших церкви Полоцкой епархии Витебскому мещанину в 1522 г. решение принималось настоятелем церкви вместе с крылошанами с разрешения наместника архиепископа61.
Злоупотребляли правом распоряжения церковным имуществом, как правило, епископы, назначенные государственной властью, например, получившие епископию в награду за заслуги перед государством, и управлявшие имуществом в соответствии со своими светскими понятиями. Одной из причин такого положения можно считать норму, установленную в 1576 г. о назначении на высшие церковные должности лиц только шляхетского происхождения по примеру Римско-Католической Церкви в Польше, а также прокатолическую направленность государей. По смерти этих епископов их родственники часто грабили церковное имущество, изымали жалованные грамоты на недвижимость, выскребали фундушевые записи из Евангелий. Личные обязательства епископа удовлетворялись за счет церковного имущества вопреки церковному праву. Фактически таким злоупотреблениям оказывалось противодействие, в частности, путем создания ставропигий, то есть подчинения монастырей, церквей и братств Константинопольскому Патриарху с выведением их из юрисдикции местных архиереев, за исключением митрополита, в том случае, если он являлся Патриаршим Экзархом. Следует отметить, что в исследуемый период усилилось участие мирян, что было оправдано с точки зрения общецерковной пользы, когда деятель- ными защитниками Православной Церкви являлись братства, шляхта и мещане православного исповедания.
В Великом княжестве местная светская администрация после смерти епископа часто расхищала церковное имущество, уничтожая дарственные грамоты. Для предотвращения таких злоупотреблений великий князь издавал грамоты, устанавливающие запрет на заведование светскими лицами церковным имуществом в период вакантности и предоставляющие это право крылошанам соборной церкви (церковный совет, состоящий из клириков) или братии монастыря. Так, в 1597 г. Полоцким, Витебским, Мстиславским и Могилевским православным соборянам была выдана королевская подтвердительная грамота о том, чтобы до назначения преемников умерших владык они сохраняли все церковное достояние в своем ведении и управлении, не допуская к тому светских сановников 62 . В 1522 г. Сигизмунд I предоставил монахам Киево-Печерского монастыря право самим управлять монастырем во время вакантности должности настоятеля со следующим определением относительно церковного имущества, оставшегося после настоятеля: «мают все статки архимандричьи брати к вспоможенью церковному» 63 .
Со стороны Великого князя злоупотребления происходили на основе подверженности влиянию чиновников и духовенства инославного вероисповедания, в частности, иезуитов. Чем более подверженным такому влиянию был великий князь, тем чаще он выступал не как гарант стабильности и компромисса в обществе, а как выразитель определенной (прокатолической либо проуниатской) религиозной политики.
Низкие духовные качества некоторых представителей высшего духовенства исследуемого периода (в частности тех, которые назначались светской властью за мирские заслуги) как проявление негативной стороны права патроната, опасность передачи церковного имущества представителям другой конфессии в условиях доминирования Римско-Католической Церкви и межконфессиональной розни исторически оправдывали участие мирян в управлении церковным имуществом в Великом княжестве Литовском.
Правовое положение Православной Церкви крайне осложнилось после заключения Брестской церковной унии в 1596 г. В истории Белорусской Православной Церкви эта дата явилась тем переломным моментом, который резко изменил положение Церкви — она лишилась покровительства со стороны государства и закона. Вследствие этого Православная Церковь практически не имела возможности восстановить свой прежний статус и, тем более, защитить свое право на неприкосновенность церковного имущества. Большое количество православных церквей и монастырей было насильственно переведено в унию со всем имуществом, православные же, не подчинившиеся Риму, часто даже не имели возможности совершать богослужения во временных помещениях.
Важно отметить, что Церковь лишь до определенной степени подчиняется государству, которое не вправе влиять на ее экклезиологию и вторгаться в духовную сферу. В случае, если государственный закон занимает противоположную Церкви позицию, она оказывается вне закона, как это и произошло в Речи Посполитой с Православной Церковью после провозглашения унии 1596 г.
После заключения Брестской унии 1596 г. вопрос о церковном имуществе был перенесен в политическую плоскость и он часто зависел от сеймовых постановлений в пользу православных. Как правило, в ходе деятельности сеймов вопрос о восстановлении православных в правах откладывался на сеймах 1601, 1603, 1605 гг. 64 , а если и разрешался (1607 и 1609 гг.), то его реализация на практике составляла большие трудности. После принятия благоприятных для православных сеймовых конституций в 1607 и 1609 гг. потребовались дальнейшие шаги по узаконению Православной Церкви и восстановлению ее прав. Однако на следующих сеймах только лишь подтверждались предыдущие конституции, а более детальное рассмотрение требований православных послов продолжало откладываться (1618, 1620, 1623, 1627 гг.) 65 .
Принятие постановлений в пользу православных и их исполнение в XVII в. зависели, главным образом, от влияния казачества и активности православной шляхты, а также от религиозной настроенности Великого князя и внешнеполитической ситуации. Признание православной иерархии произошло только в
1633 г. при короле Владиславе IV 66 . Тем не менее, Православная Церковь не приобрела равноправного конфессионального статуса в Речи Посполитой, а продолжала оставаться фактически бесправной. Впоследствии постановлением конфедерации 1732 г. в качестве признаваемых государством были определены только две конфессии: римско-католическая и греко-католическая. В постановлении указывалось: «мы с отвращением удаляем из этого правового государства все иноземные исповедания» 67 . К ним, без сомнения, относилось и православие. (Заметим, что отмена унии произошла в 1839 г. на Полоцком церковном соборе, провозгласившем воссоединение униатов с Православной Церковью).
После заключения унии Православная Церковь лишилась большей части храмов, монастырей и другого имущества. Смена собственника происходила различными способами. Среди них — переход настоятеля церкви или монастыря в унию; издание соответствующих декретов королем, обладавшим правом патроната над большой частью храмов и др. Как правило, это сопровождалось судебными спорами, нередко — захватом имущества при сопротивлении православных.
Следует подчеркнуть, что в процессе перехода имущественных прав к униатам были нарушены законодательные акты княжества, а также каноны Православной Церкви.
Видимость законности акту Брестской церковной унии была придана при помощи политического решения короля и Великого князя Жигимонта III. В данном случае произошла политическая подмена юрисдикции Константинопольского патриарха на верховенство папы Римского. В грамоте 1594 г. епископов-инициаторов принятия унии к Жигимонту III содержится просьба об аннулировании королем возможной анафемы со стороны греческих патриархов: «если бы Патриархи прокляли ‹…› чтобы з ласки его королевской милости ничего не шкодило и такие листы силы не имели»68. Данная просьба хотя и была исполнена, однако не могла иметь силы вследствие того, что налицо был конфликт компетенций властей — духовной и светской — а Жигимонт III не являлся представителем духовной власти. Такое же освобождение от отлучения от Церкви униатские епископы получили и у папы Римского еще в 1595 г.69 Автор статьи при оценке церковной унии исходит из необходимости разграничения светской и духовной сфер по аналогии с теорией симфонических государственноцерковных отношений в византийской традиции. Как отмечает прот. С. Булгаков, слова Христа о разделении между кесаревым и Божьим означают: не смешивайте разные области, не сливайте Церкви и Государства, эти слова говорят «о внутреннем отделении, о внутренней свободе и независимости церкви от государства, «царства не от мира сего» от «царства мира сего»70.
С точки зрения государства и униатских иерархов, подчинившихся папе Римскому, заключение церковной унии означало, что Униатская Церковь становилась правопреемницей Православной Церкви. Православное же духовенство и верующие, оставшиеся в юрисдикции Константинопольского патриарха, не подчинившиеся униатским епископам, оказались вне закона. Фактически Православная Церковь, получив в лице иерархии от Великих князей и королей определенный правовой статус, неправомерно лишается своих прав путем передачи их иерархии, вышедшей из юрисдикции Константинопольского патриарха против канонических правил. В силу принципа соборности правопреемником данных прав не может быть определенная часть, но Церковь в целом. Кроме того, канонические и догматические различия не были урегулированы усилиями двух Церквей. Соединение на Брестском соборе носило неестественный характер внешнего принуждения, в то время как, по словам швейцарского богослова Карла Барта, «соединение Церквей не создают, его обнаруживают»71. В силу того, что, Брестская церковная уния была делом отдельных церковных иерархов, а не всей церковной полноты, факт правопреемства нельзя назвать правомерным. На практике, к сожалению, Православная Церковь не признавалась государством, и, соответственно, говоря современным языком, была лишена прав юридического лица до 1632 г. Кроме того, с момента заключения унии до 1609 г. юридически даже не было установлено различия между униатами и православными. Термин «люди чисто греческой веры» мог быть истолкован как относящийся также и к униатам, что нивелировало сеймовые постановления о сохранении древних прав Православной Церкви и возврате церковного имущества, переданного в унию, православным.
Короли Жигимонт III и Владислав IV подтверждали униатским епископам грамоты, в различное время адресованные православному духовенству. Например, такие документы как грамоты 1499, 1511 гг., а также грамота 1522 г. православному Пинскому и Туровскому епископу о запрещении светским лицам строить церкви и монастыри без епископского благословения 72 . Так, униатский митрополит Иосиф Рутский в 1616 г. по своей просьбе получил от Сигизмунда III подтверждение для себя грамоты Сигизмунда I, данной в 1511 г. православному Киевскому митрополиту Иосифу (Солтану) о подчинении и подсудности ему всего «русского» духовенства. В 1618 г. Полоцкий униатский архиепископ И. Кунцевич занес в Гродские книги список «Свитка Ярослава» в качестве основания своей епископской власти и прав 73 . Таким образом, вышеуказанные королевские правовые акты искусственно распространяли свое действие на субъект, фактически даже не являвшийся правопреемником первоначального адресата. Верховная власть содействовала утверждению и распространению унии. Поддержка унии была одним из пунктов государственной религиозной политики.
Такая государственная политика постоянно поддерживалась на местах администрацией и судебными органами. Так, в 1664 г. в спорном деле между православными и униатами о праве собственности и конфессиональной принадлежности Заблудовской церкви судьи необоснованно отнесли ее к униатской по факту постройки в 1563 г., хотя шляхтич Г. Ходкевич, будучи православным в это время, не мог «фундовать ее на унию».
Нельзя не обратить внимание на то, что народное сознание совсем по-другому выражало свое отношение к унии, которая воспринималась им крайне негативно, о чем свидетельствует народное творчество, отражающее видение не отдельных личностей, но большинства. Например, в одном поэтическом произведении говорилось: «Ой Ляхи б не прышлы Щоб паны их не свелы Ой паны щоб пропалы, Що ляхам нас запродалы; Ой паны, щоб вы сгинули, Що вы веру покинулы»74.
При переходе в унию православные монастыри постепенно подчиняются Базилианскому ордену. Например, с переходом в унию был присоединен к Базилианскому ордену Могилёвский Спасский монастырь 75 . При митрополите Иосифе Рутском в состав ордена входили следующие монастыри, обращенные из православных: Виленский Свято-Троицкий, Полоцкий, Минский Свято-Вознесенский, Новогрудский, Супрасльский Благовещенский, Черейский, Браславский, Могилёвский, Пустынский, Мстиславский, Смоленский, Трокский, Гродненский, Кобринский, Лещинский, Жировичский, Лавришевский и Пин-ский 76 . На III Базилианской конгрегации 1623 г. выдвинут вопрос о праве ордена на коллективный патронат над епископиями и монастырями 77 . Кроме того, происходит замена капитульных имений (то есть имений, принадлежащих белому (приходскому) духовенству) на митрополичьи 78 .
В 1635 г. королем Владиславом IV ордену была дана привилегия, в которой говорилось о том, что «епископства, архимандрии, игуменства никому другому не будем давать ‹…› как только заслуженным монахам чина святого Василия, находящимся в унии…» 79 . Кроме того, было постановлено избирать митрополита из среды базилиан.
В Православной Церкви также происходит определенная трансформация управления, которая носила в первую очередь защитную функцию, но не функцию сосредоточения финансов. Так, сформировались центры управления, патроната над православными церквями и монастырями. Среди монастырей глав- ным был Виленский Свято-Духов монастырь, которому подчинялись все монастыри, не перешедшие в унию либо основанные после Брестской церковной унии и находившиеся в каноническом подчинении Константинопольского патриарха. Патронами также являлись православные церковные братства, которые уже накануне церковной унии сосредоточили в своих руках имущественные и другие полномочия над церквями и монастырями, основанные ими. Священники подчиненных церквей и братия монастырей находились в подчинении и «послушании» у таких братств и главных монастырей. При выдаче жалованной грамоты на право «подавания» священнику либо при фундации (основании) церковной учреждения в документе, как правило, содержалось условие сохранения православной веры и подчинения главному монастырю либо братству. Так, священники Успенской церкви в г. Пинске всегда должны были быть в «дозоре и опатр-ности» Богоявленского Пинского братства80.
Таким образом, произошла централизация управления с целью сохранения православными церковными учреждениями принадлежности к православной вере и юрисдикции Константинопольского патриарха.
Как правило, новые православные церкви и монастыри основывались в частных владениях шляхты, вследствие невозможности их строительства на государственных землях. Так, в XVII в. православной шляхтой и магнатами были построены следующие православные монастыри: Петро-Павловский женский монастырь в г. Минске; Богоявленский Кутеинский монастырь, Цеперский, Новодворский и Грозовский Иоанно-Богословский монастыри Минской губернии, Борколабовский, Купятицкий, Тупичевский, Пинский Полозовский, Могилевский Богоявленский и др. 81 В 1615 г. был основан Братский Богоявленский монастырь. Он был возведен на земельном участке на Киевском Подоле, который подарила братчикам Елизавета (Галшка) Гулевич. Ктитором Братского Богоявленского монастыря стал гетман реестрового казачества Петр Конашевич-Сагайдачный.
Получив от государственной власти признание своего статуса и подтверждение прав, ранее принадлежавших православным, униатские иерархи распространили свои притязания и на имущество Православной Церкви. Униаты добивались перехода церковного имущества различными способами, как якобы за- конными с точки зрения государственной власти (здесь необходимо отметить, что такая законность не является правовой и соответствующей сложившимся общественным отношениям), так и открыто противоправными.
Присвоение церковного имущества униатами осуществлялось разными способами. Во-первых, это происходило вследствие перехода конкретного держателя имущества (епископа либо священника) в унию. Именно таким образом в собственности униатской церкви оказалось имущество, находившееся в управлении епископов, подчинившихся папе Римскому (Кирилла Терлецкого, Михаила Рогозы и других), и других лиц из числа униатского духовенства, принявших унию добровольно либо под давлением.
Во-вторых, перевод в унию церкви либо монастыря, находившегося в «по-даваньи», то есть на праве патроната шляхтича, в земельных владениях которо- го находилось церковное учреждение, также являлся одним из способов смены конфессиональной принадлежности церковного имущества.
В-третьих, передача церковного имущества в собственность униатов также производилась посредством выдачи королевских грамот на церкви и монастыри, ранее находившиеся в юрисдикции Православной Церкви 86 . При этом, как правило, грамоты содержали обязательное условие пребывания соответствующего церковного учреждения в унии 87 . Так, в 1596 г. Дионисию Збируй-скому королем была выдана грамота на Пинский Лещинский монастырь с условием подчинения униатским иерархам «…послушенство митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси и иные епископы владыки духовные русские ‹…› отцу светейшому папе римскому Клименту VIII и будучим отдаючи и звирхности вызнаваючи» 88 .
Религиозно-политическая линия великих князей и королей на поддержание унии со стороны государства усматривается в изменении формулировок жалованных грамот. Так, королевский привилей 1633 г. на Пинский Варварин-ский монастырь содержит для монахинь условие пребывания в унии: «А если бы, чего Пан Боже уховай, законницы ‹…› от едности з Костелом Римским отступивши в схизме бытии хотели, тогда тот монастырь зо всими его приналеж-ностями знову до диспозиции нашей и сукцессоров наших вернутися мает» 89 . Это говорит о государственном покровительстве унии и о том, что в отношениях «духовная должность — имущество», первостепенная роль отдается власти над имуществом, каковой в Великом княжестве Литовском была власть светская. Несмотря на существование законов, издававшихся в соответствии с церковными канонами, доминировала религиозная политика, шедшая вразрез даже с законодательством.
В-четвертых, униаты также приобретали право собственности на православные церкви и монастыри путем их захвата с последующим утверждением имущества за униатами королевскими судебными решениями либо подтвердительными грамотами. Так, например, ряд пинских церквей силой оружия захва- чены униатами. Нередко это происходило с участием государственных чиновников.
Кроме нарушения права собственности на имущество Православной Церкви униаты также препятствовали реализации права пользования собственностью Церкви (опечатывание церквей) в том числе с помощью представителей государственной администрации.
Униаты также нередко совершали противоправные оскорбительные действия в отношении православных верующих и церковного имущества. Они совершали нападения на православные храмы, школы, производя беспорядки и порчу имущества, включая осквернение святых предметов. Кроме того, бывали случаи разрушения самих храмов. Например, церковь Богоявленского Поло-зовского монастыря была разрушена и по частям спущена по реке. При этом, в судебном порядке по данному делу было принято абсолютно неадекватное решение: потерпевшие вместо компенсации и наказания виновных были присуждены к уплате штрафа за так называемое причинение вреда униатскому епископу самим фактом строительства церкви и монастыря, в которых собираются «схиз-матики» 90 .
Одним из видов нарушений имущественных прав Православной Церкви являлось препятствие исполнению решений судебных органов по возврату имущества в собственность Православной Церкви со стороны униатов. После легитимации православной иерархии в 1632 г. на основании «Пунктов соглашения между православными и униатами»95 было произведено распределение церковного имущества между двумя конфессиями с помощью специально созданных комиссарских комиссий. Нередко униаты сопротивлялись возврату храмов православным. Так, по особому королевскому листу православным должна была быть возвращена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в г. Бресте, однако униатский священник с капитулой препятствовал исполнению решения и не передал ключей. Несмотря на это, церковь впоследствии была открыта и возвращена православным по распоряжению королевского комиссара96. Также существует свидетельство о противодействии передаче православным СвятоТроицкой церкви в г. Минске со стороны униатов. При этом одним из доказательств принадлежности данной церкви православным была надпись на колоколе («дар взглендем послушенства патриарху Константинопольскому»), однако униаты не допустили уполномоченных должностных лиц на звонницу с целью проверки данной надписи97. В Вильне униаты также не допускали государственную администрацию к передаче законного церковного имущества «неунитам»98.
Таким образом, на примере государственно-церковных отношений в Великом княжестве Литовском можно видеть, что имущество в критические моменты истории становится центральным рычагом проведения той или иной политики, а также сделать вывод о том, что религиозная нестабильность расшатывает устои самого государства. Православная Церковь играла существенную роль в жизни Великого княжества Литовского, будучи духовной основой благополучия народа и государства. Достаточно развитая правовая система и традиции самоуправления, возможность широкого участия многочисленной шляхты в делах государства позволяли строить гибкие отношения между государством и Церковью. Однако, несмотря на то, что общие правовые условия существования церковных организаций в целом были благоприятны, конкретная религиознополитическая ситуация в Великом княжестве Литовском была несколько иной. Постепенное усиление межконфессиональной розни определили особое положение Православной Церкви, которое, как правило, являлось приниженным. Давнее стремление Римско-Католической Церкви подчинить себе православных («схизматиков» — термин, часто использовавшийся в документах указанного периода) стало причиной серьезных бед как для Православной Церкви, так и для государства. Правовое и имущественное притеснение сыграло ключевую роль в принуждении православных верующих принять унию. Поэтому важно сохранять имущественную стабильность Церкви как субъекта права, которая обязана действовать в рамках государственного законодательства (в пределах, не нарушающих экклезиологической сущности церковного организма). При этом, немаловажной является проблема рецепции норм канонического права светским законодательством. Подобные попытки усматривались в праве ВКЛ, что имело положительные результаты. Сегодня с развитием государственноцерковных отношений проблема уважения церковных канонов приобретает еще большую актуальность.
Список литературы Некоторые аспекты правового регулирования имущественного положения Православной Церкви в Великом княжестве Литовском до сер. XVII в
- Degiel R. Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaiowy Radziwiłłowbirzanskich nad Cerkwia prawosławna w księstwie Słuckim w XVII w.Warszawa, 2000.
- 2. Medieval Sourcebook: Boniface VIII. Unam Sanctam. 1302 // FordhamUniversity. URL: //http://www.fordham.edu/halsall/source/b8-unam.html (да-та обращения: 26.07.2011).
- Ochmański, J. Historia Litwy. Wrocław: Ossolineum, 1982.
- Volumina Legum. Petersburg: J. Ohryzko, 1859. T. 2: Ab an. 1550 ad an. 1609.
- Volumina Legum. Petersburg: J. Ohryzko, 1859. T. 3: Ab an. 1609 ad an. 1640.
- Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. Pijarow w Warszawie,od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. II. Petersburg, 1859.
- Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. Вильна: Тип.А.Г. Сыркина, 1889. Т. 16: Документы, относящиеся к истории церковнойунии в России. 704 с.
- Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов. Виль-на: Тип. «Рус. почин», 1908. Т. 33: Акты, относящиеся к истории Западно-русской Церкви. 567 с.
- Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные ар-хеографической комиссией: В 5 т. СПб.: Тип. 2-го отд-ния Собств. импе-рат. канцелярии, 1846-1853. Т. 2. 1848.
- Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданныеархеографической комиссией: В 5 т. СПб.: Тип. Праца, 1846-1853. Т. 4. 1851.
- Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданныеархеографической комиссией: В 5 т. СПб.: Тип. Праца, 1846-1853. Т. 3. 1863.
- Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные иизданные археографической комиссией. СПб.: Тип. Праца, 1861-1892. Т.1. 1863.
- Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для раз-бора древних актов. Киев: Унив. тип., 1859. Ч. 1. Т. 1: Акты, относящиесяк истории православной церкви в юго-западной России.
- Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для раз-бора древних актов. Киев: Унив. тип., 1883. Ч. 1. Т. 6: Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322-1648 гг.).
- Батюшков П.Н. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края. Минск: Изд. центр БГУ, 2004. 408 с.
- Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве: по Volumina legum.Минск: Лучи Софии, 2002. 430 с.
- Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства(БГАМЛИ). Фонд 6. Оп. 1. Д. 14. Белорусский архив древних грамот. Т. 2.
- Бенефиции//Энциклопедический словарь/Под ред. проф. И.Е. Андреев-ского. Том III. СПб., 1891.
- Булгаков С., прот. Труды по социологии и теологии: в 2 т. М.: Наука,1999. Т. 2: Статьи и работы разных лет, 1902-1942. 824 с.
- Витебская старина/Сост. А.П. Сапунов. Витебск: Изд. А. Сапунов, 1888.Т. 5. Ч. 1: Материалы для истории Полоцкой епархии.
- Григоренко А.Г. Уния в истории Украины-Руси: крат. ист. очерк. Ново-сибирск: Паритет, 1991. 105 с.
- Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVII вв.:соц.-экон. исслед. истории городов. Минск: Наука и техника, 1975. 248 с.
- Диковский Н., прот. Базилианский орден и его значение в западно-русской униатской церкви в XVII и начале XVIII века, -до Замойскогоуниатского провинциального собора 1720 г.//Гродн. епарх. ведомости. 1904. № 23. С. 666-674.
- Дополнительные примечания к летописи Германа Вартбер-га (Составлены по данным, изложенным в третьем томе«Истории России» Соловьева)//Хроники Ливонии. URL:http://livonia.narod.ru/chronicles/vartberg/note2.htm (дата обращения:20.07.2011).
- Дружчыц В. Магiстрат у беларускiх местах з Магдэбургскiм правам уXV-XVII стагоддзях. Мiнск: Друк. Беларус. акад. навук, 1964. 79 с.
- Ермаловiч М. Па слядах аднаго мiфа. Мн., 1989. 94 с.
- Ермаловiч М. Старажытная Беларусь: Полацкi i Новагародскi перыяды.Мн., 1990. 365 с.
- Жудро Ф. Спасский монастырь в Могилеве. Могилев: Типолитогр. Ш.Фридланда, 1892.
- Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губер-ний: Витебской и Могилевской, хранящихся в Центральном архиве в Ви-тебске/Под ред. архивариуса Сазонова. Витебск: Витеб. тип. Губерн. правления, 1871. Вып. 1. 377 с.
- Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и униив Белоруссии и Литве с древнейших времен. 2-е изд., доп. Вильна: Тип. И.Блюмовича, 1899. 238 с.
- Кибург К. Дневник посольства//Восточная литература. URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XIV/Kyburg/text.phtml?-id=4001 (дата обращения: 23.07.2011).
- Королевское на сейме решение о передаче Православной церкви, постро-енной Гарабурдиною, во власть Паисия, епископа Пинского, подчинениеему Православного духовенства Пинской епископии, и о взыскании с Га-рабурдиной 40 000 злотых польских и 3 000 коп грошей литовских//Ли-тов. епархиал. ведомости. 1868. № 8. С. 372-380.
- Краýцэвiч А.К. Стварэнне Вялiкага княства Лiтоýскага. Менск, 1997. 281 с.
- Лапiцкi М. Праваслаўе ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм падчас панаванняУладыслава Ягайлы//Спадчына. 1995. № 4. С. 179-204.
- Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: в 9 кн. М.: Изд-воСпасо-Преображ. Валаам. монастыря, 1994-1997. Кн. 6. 1996. 797 с.
- Малеев Г., диак. Каноническая оценка деяний Полоцкого Собора 1839 г.:дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 1999.
- Менжинский В.С. Феодальное землевладение в Белоруссии во второйчетверти XVI в.: (по материалам кн. записей Литов. метрики): дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. М., 1988. 476 л. Мфиша.
- Могилевская епархия: ист.-стат. описание: в 3 вып./Могилев. духов. се-минария. Могилев: Скоропеч. и литогр. Ш. Фридланда, 1905-1910. Вып. 2. Ч. 1. 1908. 410 с.
- Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Фонд 1769. Оп. 1.Д. 9.
- Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). КМФ-18. Оп. 1. Д. 83, 288, 294.
- Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Фонд 1503. Оп. 1.Д. 23.
- Николай (Далматов), архим. Супрасльский Благовещенский монастырь:ист.-статист. описание. СПб.: Синод. тип., 1892. 613 с.
- Новинский В., прот. Очерк истории Православия в Литве. Вильнюс, 2005.
- Опись документов Виленского центрального архива древних актовыхкниг. Вильна: Артель печ. дела, 1913. Вып. 10: Акты Брестского гродскогосуда за 1575-1715 гг.
- Оржеховская К.И. «Nexus» и его значение в истории ордена базилиан//IX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Днямславянской письменности и культуры «Церковь и ответственность за тво-рение»: материалы чтений, Минск, 23-26 мая 2003 г.: в 2 ч./Отв. ред. исост. А.Ю. Бендин. Минск, 2004. Ч. 1. С. 217-223.
- Полацкi царкоýны сабор 1839//Рэлiгiя i царква на Беларусi: Энцыкл. да-вед./Рэдкал.: Г.П. Пашкоý i iнш. Мн.: БелЭн, 2001. 365 с.
- Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями: сб. репринт. произ-ведений/Моск. о-во любителей духов. просвещения. М.: Паломник: Сиб. благозвонница, 2000. 875 с.
- Рацько А.Ф. Праблема ýтварэння Вялiкага княства Лiтоýскага. Канец XIII-першая палова XIV ст.//Гiсторыя Беларусi. Мн., 1994.
- Рижские епархиальные ведомости. 15.03.1897. №6.
- Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае.Вильна: Изд. «Вилен. вестн.», 1866. Вып. 1: Песни, пословицы, загадкиГродненской, Виленской и отчасти Минской губернии. 294 с.
- Снапкоýскi У. З гiсторыi дыпламатыi//Веснiк Мiнiстэрства замежныхспраý. 2002. № 2. С. 135-138.
- Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковна, Трок, право-славных монастырей, церквей и по разным предметам: в 2 ч. Вильно: Тип.А. Марциновского, 1843. Ч. 1. 208 с.
- Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православ-ных монастырей, церквей и по разным предметам. Минск: Губерн. тип.,1848. 402 с.
- Сокал С.Ф. Гiсторыя дзяржавы i права БССР (дакастрычнiцкi перыяд).Мн., 1989.
- Ермаловiч М. Старажытная Беларусь: Полацкi i Новагародскi перыяды.Мн., 1990.
- Турук Ф. Униатский митрополит Иосиф Вельямин Рутский (1613-1617) иего значение в истории униатской Западной русской церкви. Петроград:Сенат. тип., 1916. 41 с.
- Уния документах: Сборник/Сост.: В.А. Теплова, З.И. Зуева. Минск: ЛучиСофии, 1997. 518 с.
- Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавшихунии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. Минск: Пра-вослав. братство во имя Архистратига Михаила, 1996. 200 с.
- Цыпин В., прот. Курс церковного права: Учеб. пособие. Клин: Фонд«Христиан. жизнь», 2002. 704 с.
- Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. Мн., 1978. 143 с.
- Ясинский М.Н. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государ-ства. Киев, 1889. 208 с.