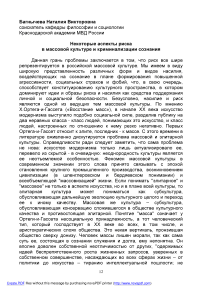Некоторые аспекты риска в массовой культуре и криминализации сознания
Автор: Багнычева Наталия Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Личность и общество
Статья в выпуске: 2, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932472
IDR: 14932472
Текст статьи Некоторые аспекты риска в массовой культуре и криминализации сознания
Багнычева Наталия Викторовна соискатель кафедры философии и социологии
Краснодарской академии МВД России
Некоторые аспекты риска в массовой культуре и криминализации сознания
Данная грань проблемы заключается в том, что риск все шире репрезентируется в российской массовой культуре. Мы имеем в виду широкую представленность различных форм и видов насилия, воздействующих на сознание в плане формирования повышенной агрессивности, социальных страхов и фобий, что, в свою очередь, способствует конституированию культурного пространства, в котором доминируют идеи и образы риска и насилия как средства поддержания личной и социальной безопасности. Безусловно, насилие и риск являются одной из ведущих тем массовой культуры. По мнению Х.Ортега-и-Гассета («Восстание масс»), в начале ХХ века искусство модернизма выступило подобно социальной силе, разделив публику на два неравных класса - класс людей, понимающих это искусство, и класс людей, настроенных по отношению к нему резко негативно. Первых Ортега-и-Гассет относит к элите, последних - к массе. С этого времени в литературе оживленно дискутируется проблема массовой и элитарной культуры. Справедливости ради следует заметить, что сама проблема не нова: искусство модернизма только лишь актуализировало ее, перевело из скрытой - в очевидную: неоднородность культуры является ее неотъемлемой особенностью. Феномен массовой культуры в современном значении этого слова принято связывать с эпохой становления крупного промышленного производства, возникновением цивилизации (в шпенглеровском и бердяевском понимании) и всеобъемлющей "массовизацией" жизни. Если понимать "элитарное" и "массовое" не только в аспекте искусства, но и в плане всей культуры, то элитарная культура может пониматься как субкультура, обусловливающая дальнейшую эволюцию культурного целого и переход ее к иному качеству. Массовая же культура - субкультура, обусловливающая консервацию сложившегося в обществе культурного качества и противостоящая элитарной. Понятие "масса" означает у Ортеги-и-Гассета несоциальную принадлежность, а тот человеческий тип, который господствует в ХХ веке во всех, в том числе, и аристократических слоях общества. Это некая вертикаль, пронзившая общество сверху донизу. Человек массы лишен морали, так как сама суть ее, состоящая в сознании служения и долга, ему непонятна. Он вполне доволен собственной неотличимостью от других, "одержимых идеей беспрепятственного роста жизненных запросов, уверенных в собственном совершенстве, насаждающих во всех сферах жизни - от политики до искусства - тиранию интеллектуальной пошлости; не приученных считаться ни с кем, кроме самих себя (пока нужда не заставит)". Заурядный человек с его невысокими эстетическими запросами способствует созданию такой же, как и он сам, заурядной культуры, которая теперь уже не просто существует рядом с культурой "высокой" в качестве дополнительной, но вытесняет последнюю на периферию, занимая ее место. В этом и состоит специфика функционирования массовой культуры в ХХ веке: она более не довольствуется своей прежней скромной ролью, но стремится подменить собой всю культуру. На становление массовой культуры оказала влияние и коммерциализация всех общественных отношений. Она привела к возникновению феномена, названного Т.Адорно "культуриндустрией". Кино и радио, - пишет он, - "сами себя называют индустриями, и публикуемые цифры доходов их генеральных директоров устраняют всякое сомнение в общественной необходимости подобного рода готовых продуктов". Сказанное относится практически ко всем видам массовой культуры: шоу-бизнесу, рекламе и т.д. Неотвратимая стандартизация, наступающая вследствие серийного производства продуктов "культуриндустрии", приносит в жертву все то, что отличало логику произведения искусства от логики промышленного производства. Культуриндустрия производит такой же товар, как и любая другая отрасль промышленности, и точно так же этот товар стремится не только утвердиться на рынке, но и максимально этот рынок расширить. Но для того, чтобы быть востребованным, любой товар должен максимально соответствовать запросам потенциальных покупателей. Поэтому изначально массовая культура формируется, исходя из запросов публики. Связь эта не является односторонней: чем более прочными становятся позиции массовой культуры, тем сильнее возрастает ее влияние на потребителей, которых она направляет и чьи потребности создает. В этом смысле массовая культура является мощным инструментом манипулирования человеческой психикой. Произведение массовой культуры нередко рассматривается потребителем в качестве примера для подражания буквально во всем: от жизненной стратегии героя, особенностей его речи, до его прически, марки машины, часов, одежды и т.д. Произведение массовой культуры, как и всякий товар, за редким исключением недолговечно. Нередко оно спекулирует на актуальных, злободневных темах: СПИД, наркотики, природные катаклизмы, крупнейшие техногенные катастрофы, терроризм и т.д. (Трагедия атомной подводной лодки "Курск" оказалась в сфере внимания Голливуда, спустя несколько недель после ее гибели). Особое внимание современная массовая культура уделяет теме агрессии. Жестокость сцен насилия на экране поражает воображение как количеством, так и своей натуралистичностью. Достоинства того или иного боевика нередко оцениваются пропорционально количеству трупов - вымышленное насилие влечет к себе, как наркотик. Объяснение этому факту может дать психоаналитическая концепция З. Фрейда. Поскольку культура подавляет в человеке природное начало, его инстинкты, то в качестве иллюзорной реализации своих неудовлетворенных страстей он вынужден использовать искусство. Именно поэтому в массовой культуре так много секса и агрессии. Еще одна излюбленная тема - страх: такие жанры массовой культуры как триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа и т.д. эксплуатируют эту тему весьма активно. В итоге психика человека, "закаленного" современной массовой культурой, становится менее чувствительной к тому, что происходит в реальности: он привыкает к убийству, насилию, душевная черствость становится скорее правилом, нежели исключением. Любой человек сегодня не может не попадать в информационное пространство массовой культуры, превратившееся в пространство риска, поскольку культивирует эмоции и потребности, ставящие человека в пограничную ситуацию и приучающие его через риск получать удовлетворение и самоутверждение. В обращении Ассоциации школьных общественных организаций к СМИ Казахстана в июне 1999 года есть такое предложение: «Давайте начнем с малого и вернемся к старому забытому правилу, которое гласило: фильмы, в которых есть сексуальные сцены, насилие и жестокость, детям до 16 лет смотреть не рекомендуется. Помните, было у нас такое в советское время. А теперь оно широко критикуется на Западе». Тревога за подрастающее поколение, которой проникнуто это обращение, по существу, отражает очевидный факт: с одной стороны, секс и насилие - это то, чего не было в советских СМИ (знаменитая фраза, что «секса в СССР нет», имела, как подчеркивал Владимир Познер, именно этот смысл - секса нет на телевидении), а с другой, секс и насилие - это то, без чего нынешние (постсоветские) СМИ просто невозможны. Сцены насилия имеются и в сериалах, предостаточно его и в детской мультипликации, просто оно по большей части эмоциональное и психологическое, то есть не такое кровавое и отвратительное, как в боевиках и триллерах, а, значит, не такое явное и потому не столь заметное. В этой плоскости, по аналогии с известной идеей С. Эйзенштейна (кинематограф как насилие), легко выстраивается ряд: телевизионное насилие, радионасилие, полиграфическое насилие. Таким образом, первичный и глубинный смысл проблемы состоит в том, что насилие заложено в самой природе информации, являясь способом существования СМИ (информационное воздействие), и как таковое может становиться предметом специального исследования. При этом особого внимания заслуживает описание и демонстрация насилия и жестокости в СМИ, на телевидении, в газетах и журналах. Доза насилия, с поправкой на субъективность восприятия, определяет отношение к нему: от пассивного согласия до возмущенного неприятия. Как правило, под насилием и жестокостью понимают физическое насилие и его отражение в СМИ и печатных изданиях (репортажи, криминальные хроники, фотографии, игровые и документальные фильмы и т. д.).
Между тем, если насилие имеет онтологическую природу, оно лежит в основе самых разных форм бытия, явлений и процессов. Насилие -универсально, на нем строятся педагогика, секс, реклама и многое другое. Не претендуя на исчерпывающую классификацию, укажем, что насилие может различаться по своим сферам: экономическое насилие; политическое; милитарное (военное); морально-психологическое (конкретными проявлениями которого являются манипуляция, шантаж, вызывание чувства вины и даже использование чужих достижений -плагиат); физическое насилие; сексуальное; экранное насилие (игровое и документальное кино). По своему характеру насилие может быть явным (открытым) или неявным (скрытым). Например, к скрытому насилию можно отнести ложь, измену, сокрытие информации, злоупотребление доверием. Наконец, по способам действия насилие может быть прямым (непосредственным) и косвенным (опосредованным). Косвенным насилием можно считать все формы поведения и действия, которые не направлены на человека лично, но вызывают у него негативные эмоции. В свою очередь, наиболее очевидным типом насилия является прямое (непосредственное) насилие, направленное на человека или его имущество (разрушение), а также на любое другое живое существо; сексуальное насилие; невербальное насилие (мимика, запугивающие жесты и.т.д.); вербальное насилие (которое включает в себя неприемлемый сленг и все формы деструктивной критики: ирония, брань, ругательства, инвективную лексику, оскорбление чести и умаление достоинства). Наиболее распространенным и очевидным видом насилия является -экранное насилие, которое обширно представлено в кино- и видеопродукции и в визуальных СМИ. Именно с этим насилием зритель сталкивается чаще всего, поскольку на экране его заметно больше, чем в жизни, как в количественном, так и в качественном смысле. Понять озабоченность экспертов по поводу моделей агрессии в кино и на телевидении нетрудно, поскольку вербальное и физическое насилие на наших кино- и телеэкранах стало чуть ли не нормой. За рубежом на этот счет существуют самые разнообразные исследования. Так, например, в работах Уильямса, Забрака и Джоя ещё в 1982 году сообщалось, что в наиболее популярных американских телепрограммах на каждый час вещания приходится в среднем около девяти актов физической и восьми актов вербальной агрессии. За последние двадцать лет эти цифры менялись в разных исследованиях, но факт оставался фактом: насилие -неотъемлемый элемент голубого экрана: фильмов, сериалов, рекламы, мультипликации, передач, ток-шоу и даже анонсов. В исследовании того же Уильямса за 1989 год сообщалось, к примеру, что в телеменю «TV Guide» секс и насилие так или иначе фигурируют более чем в 60% анонсов телепрограмм. Ни для кого не секрет, что американские телевизионные фильмы доминируют в мире последние два десятилетия (в данном случае мы отвлекаемся от различий между американским и европейским телевидением). А значит, наше телевидение вторым и третьим эшелоном (после адаптированных вариантов российского телевидения) воспроизводит те же модели агрессии, которые уже давно исследуются за рубежом, в том числе в анонсах и рекламе. Последние «безобидные» примеры в этой связи - реклама минеральной воды со слоганом «Убойная сила» и ударная реклама сладостей « TWIX». Главный вопрос, однако, заключается в том, реально ли экранное насилие формирует агрессивное поведение? Можно ли считать масс-медиа стимулятором насилия и жестокости в жизни? Отвечая на эти вопросы, исследователи влияния масс-медиа Хьюсман, Эрон, Лефковитц и Уолдер отслеживали корреляцию между просмотром телепередач и агрессивностью в течение двадцати лет. В результате этих исследований была разработана модель Хьюсмана, согласно которой зависимость между наблюдением насилия и агрессивностью нельзя считать однозначной. Модель Хьюсмана и ряд других исследований позволили сделать следующий вывод: «Высокий уровень насилия, характерный для современной кино- и телепродукции, предположительно, наряду с другими факторами, может оказывать свое влияние на осуществление некоторых видов агрессивного поведения, но не следует переоценивать важность этой зависимости». Проще говоря, экранное насилие не является первичной мотивацией агрессивного поведения (в свое время аналогичный вывод на обширном исследовательском материале сделал И.С. Кон в отношении порнографии). Российские дети в большинстве растут в неблагополучных семьях. Телевизионная агрессия не только провоцирует реальную жестокость, она учит относиться к ней как к норме. Дети, посмотревшие агрессивный фильм, наблюдают за настоящей дракой более равнодушно, чем те, кто фильма не видел, и не пытаются вмешаться. Нам представляется, что Россия в этом отношении приближается к Америке: всё меньше различий и всё больше сходства в специфике массовой культуры и деятельности средств массовой информации. Можно отметить, что на российском телевидении совершенно определенно существует апология криминального сознания. Анализ материалов, полученных в ходе исследований, проведенных Независимым институтом коммуникативистики, показывает: большинство россиян в принципе не одобряют интолерантное поведение и даже негативно относятся к фактам немотивированной агрессивности, однако почти 30% граждан не видят ничего дурного в подобном поведении. Кроме того, приходится констатировать, что, не одобряя такое поведение, многие из наших сограждан (от 33 до 42%) довольно часто совершают интолерантные поступки, прекрасно понимая их несовместимость с правилами человеческого общежития, а также считая, что в определенной ситуации они вынуждены так поступать и потому имеют на это право. Вместе с тем уровень немотивированной агрессии хотя бы по отношению к представителям других наций и народностей довольно высок. Сторонники политического экстремизма, ксенофобии и национализма, шовинизма, антисемитизма этим пользуются. В стране действуют десятки военизированных экстремистских организаций, издаются сотни газет, книг, брошюр, листовок, в которых пропагандируются национальная, религиозная и социальная рознь, ведется психологическая подготовка, оправдывающая применение насилия, цель которого — свержение законно избранной власти и установление в стране «национально-ориентированного» режима. По данным социологов, идеология национал-шовинизма, к сожалению, находит откровенную поддержку не только у определенной части населения, но и среди работников государственного аппарата, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Активно ведется безнаказанная пропаганда, призывающая к изгнанию «инородцев» из России. Следствием подобной пропаганды, не получающей должного противодействия, является распространение ксенофобии, а также конкретные криминально-террористические действия: взрывы, погромы, акты физического насилия, плакаты с оскорбительными лозунгами, призывающими к насилию по отношению к мигрантам и представителям так называемого некоренного населения. Средства массовой информации России, освещая проблему насилия, на первом плане живописуют жестокость, с которой участники насильственных акций расправляются друг с другом. Разумеется, все это приводит к тому, что массовое сознание отнюдь не настраивается на борьбу с насилием, а, наоборот, начинает либо воспринимать его как естественный элемент жизни, либо восхищаться насилием и насильниками. Особый интерес СМИ вызывают массовые формы насилия — кто бы их ни совершал, чем и как бы ни мотивировал. Террористы, антиглобалисты, футбольные фанаты, бунтующие студенты издавна являются любимыми героями медийных материалов. Кроме того, на людей действуют не только образы насилия (то есть семантика медиатекстов), но и специфический «язык вражды», которым пользуются СМИ, описывая даже вполне мирные ситуации. Агрессивную реакцию значительной доли населения вызывают сексизм и эротика, отвязный молодежный сленг, агрессивная реклама. Наконец, насилие, или, говоря шире, силовые методы решения всех без исключения жизненных, экономических, политических проблем становится популярнее и обретает признание масс, что само по себе является тревожным признаком. Все большее распространение получают взгляды, согласно которым интересы «национальной и международной безопасности» не позволяют уповать на сентиментальность и толерантность. Напротив, обычно декларируется, что необходима суровая борьба за наведение необходимого порядка и дисциплины. Голоса же тех, кто считает порочной идею борьбы против яростной агрессии методами кровной мести и пресечения насилия насильственными же средствами, практически не слышны. Многие публично иронизируют над немногочисленными высказываниями сторонников концепций толерантности, которые считают, что даже в тяжелейшей исторической обстановке необходимо вновь и вновь поднимать вопрос о предпочтительности борьбы с культом инстинкта смерти и террором. Их логика действий основывается не на кровной мести и насилии, а на человеческой солидарности и, как минимум, на разумной и взвешенной толерантности. В формирование социокультурного контекста, стимулирующего и культивирующего все виды риска, широкая репрезентированность насилия в массовой кульуре и СМИ вносит свой весьма весомый вклад, адаптируя и приучая сознание общества к сложившейся патологической ситуации незащищенности маленького человека в рамках социального порядка, в котором возрастает роль и значение силовых структур. Это составляет еще один фундаментальный аспект сложившейся «культуры риска».