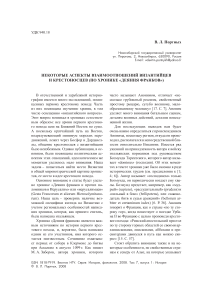Некоторые аспекты взаимоотношений византийцев и крестоносцев (по хронике «Деяния франков»)
Автор: Портных В.Л.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736913
IDR: 14736913 | УДК: 940.18
Текст краткого сообщения Некоторые аспекты взаимоотношений византийцев и крестоносцев (по хронике «Деяния франков»)
В отечественной и зарубежной историографии имеется много исследований, посвященных первому крестовому походу. Часть из них посвящена изучению хроник, в том числе освещению «византийского вопроса». Этот вопрос возникал в хрониках естественным образом: все армии первого крестового похода шли на Ближний Восток по суше. А поскольку кратчайший путь на Восток, подразумевающий минимум морских передвижений, лежит через Босфор и Дарданеллы, общение крестоносцев с византийцами было неизбежным. Однако публикации, в основном, были посвящены политическим аспектам этих отношений, идеологическим же моментам уделялось мало внимания. Наша задача – попытаться найти место Византии в общей мировоззренческой картине хронистов, ее место в идее крестового похода.
Основное внимание в статье будет уделено хронике «Деяния франков и прочих паломников в Иерусалим» или «иерусалимцев» (Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitano-rum). Наша цель – проверить наличие возможной специфики взгляда на Византию с учетом региональных особенностей написания хроники, которая, как принято считать, была написана итальянцем.
Хроника «Деяния франков» является важным источником по истории первого крестового похода, и, вероятно, была написана одним из его участников, имя которого остается неизвестным. Сочинение охватывает период от собора в Клермоне до битвы при Аскалоне в августе 1099 г. Как пишет М. А. Заборов, автора хроники, которого часто называют Анонимом, отличает «несколько грубоватый реализм, свойственный простому рыцарю, сугубо военному, малообразованному человеку» [17. C. 7]. Аноним уделяет много внимания батальным сценам, деталям военных действий, деталям повседневной жизни.
Для последующих выводов нам будет очень важно определиться с происхождением Анонима, поскольку регион, откуда он происходил, располагался в непосредственной близости относительно Византии. Имеется ряд указаний на принадлежность автора к войску итальянских норманнов под руководством Боэмунда Тарентского, которого автор называет «dominus» (господин). Об этих моментах в тексте хроники уже было сказано в ряде исторических трудов (см. предисловия к [1; 4; 6]). Автор называет «господином» только Боэмунда, он периодически воздает ему хвалы. Боэмунд предстает, например, как «мудрый» (sapiens), «рассудительный» (prudens) и «сильный в бою» (bellipotens), или «законодатель битв и судья сражений» (bellorum arbiter et certaminum iudex) [6. P. 36]. Аноним говорит о Франции, как о стране «по ту сторону гор», когда повествует о поездке Урбана II во Францию с целью проповеди крестового похода: «Римский апостольский престол по ту сторону горных областей со своими архиепископами, епископами, аббатами и пресвитерами двинулся в путь как можно скорее» [15. C. 57].
Стоит обратить внимание также и на некоторые особенности, не свойственные странам к северу от Альп, на которые указывает
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © В. Л. Портных, 2008
Розалинд Хилл в своих комментариях к английскому переводу хроники [6. P. 12]. Беатрис Лис также упоминает эту особенность в предисловии к изданию латинской версии [1. P. XIV]. Апулия, один из регионов Италии, фигурирует в хронике как конечная цель атабека Кербоги, одного из основных врагов крестоносцев: «Отныне клянусь вам Магометом и именами всех богов, что не предстану вновь пред вашими очами до тех пор, покуда своей крепкой десницей не завоюю вновь царственный город Антиохию, всю Сирию и Романию, Болгарию [6. P. 52] и земли вплоть до Апулии ко славе богов и вашей, и всех кто принадлежит к роду турков» (Amodo iuro vo-bis per Machomet et per omnia deorum nomina, quoniam ante vestram non ero rediturus presen-tiam, donec regalem urbem Antiochiam et om-nem Suriam sive Romaniam atque Bulgariam usque in Apuliam adquisiero mea forti dextera, ad deorum honorem et vestrum, et omnium qui sunt ex genere Turcorum) [Ibid.].
В данном контексте это может говорить о принадлежности автора к конкретному региону. Тарент, из которого был родом глава войска Боэмунд, также принадлежит к этому региону. Стоит добавить, что автор начинает говорить «мы» только в своем повествовании о войске Боэмунда. И в этом контексте он говорит «мы» только до тех пор, пока все армии крестоносцев не соединяются под Константинополем. В повествовании, скажем, о пути к Константинополю войска герцога Готфрида Бульонского, или об истории «похода бедноты», он этого не делает. В тексте хроники имеются, таким образом, указания на принадлежность автора к войску, пришедшему из норманнской Италии.
Для нашего исследования также будут привлечены хроники других очевидцев первого крестового похода: речь идет о Петре Тудебоде, Фульхерии Шартрском и Раймунде Анжильском. Раймунд Анжильский был капелланом графа Раймунда Сен-Жилльско-го, возглавлявшего войско из Южной Франции. Фульхерий Шартрский служил капелланом вначале у Стефана Блуазского, а затем у Балдуина Булонского. Петр Тудебод, по-ви-димому, был священником, жившим недалеко от Пуатье [11. P. 13]. Его хроника очень похожа на хронику Анонима, и даже практически совпадает с ней. В связи с этим в науке постоянно высказываются различные мнения насчет того, какая из двух хроник является первоисточником. В целом хроника Тудебо-да подробнее, хотя в каждой из хроник встречаются места, которые уникальны. На наш взгляд, все же хроника Анонима скорее является первоисточником по отношению к хронике Тудебода. Тудебод воспевает Боэмунда в духе Анонима, хотя и делает это в меньшей степени. Он также называет его «dominus», использует многочисленные эпитеты в отношении Боэмунда, так же, как Аноним, начинает говорить от первого лица, лишь начав повествование о войске Боэмунда. Согласно нашим подсчетам в тексте хроники Петра Ту-дебода, хвалебные эпитеты в отношении Бо-эмунда и его племянника Танкреда, по количеству значительно превышают хвалебные эпитеты в отношении других вождей крестового похода. Учитывая еще тот факт, что Ту-дебод подобно Анониму называет Францию «страной по ту сторону гор» и приводит абзац, в котором говорится про Апулию (см. выше), создается впечатление, что автором первоисточника является кто-то из итальянского войска, а не священник из Пуатье. Другими словами, писал ее Аноним, о котором, методом исключения, можно заключить, что он принадлежит к итальянскому войску. Существует гипотеза об общем источнике для обеих хроник, не сохранившемся до наших дней, но эта точка зрения остается лишь гипотезой, ибо общий источник пока не найден [2. P. 16–17].
Норманны, к войску которых, по-види-мому, относится Аноним, пришли в Италию незадолго до первого крестового похода. Они осуществили завоевание Италии в 40–70-x гг. XI в. [9. P. 715]. Это завоевание не являлось единовременно организованным, а скорее представляло собой совокупность единоличных инициатив, оно не являлось массовым: речь идет максимум о нескольких тысячах мигрантов [8. P. 31]. Ранее данные территории являлись византийскими. В связи с этим в регионе оставалось много греков, которых норманны должны были хорошо знать в повседневной жизни. Конкретно в Таренте, где княжил Боэмунд, греки были не столь многочисленны, но тем не менее их присутствие зафиксировано в ряде источников [9. P. 512–513]. Норманны часто были наемниками на службе у Византии. Столь тесные контакты с Византией выделяют нашу хронику из ряда хроник, написанных французскими хронистами. Нельзя сказать, правда, что контакты эти были добрососедскими. Помимо, собственно, завоевания региона, отношения Византии и итальянских норманнов были испорчены возросшим в эти годы папским влиянием в регионе. Отношения обострились также из-за войны между Византией и норманнами 1081–1085 гг., в которой и начинал свою военную карьеру Боэмунд Та-рентский. Данный экскурс дает нам понять, почему для анализа взглядов крестоносцев о Византии итальянское происхождение становится важным. Можно предположить, что мнение нашего хрониста будет отлично от мнения хронистов из Франции, не имевших столь тесных контактов с Византией.
Есть, правда, общие для всех хронистов факторы, оказавшие влияние на формирование мнения о Византии, характерные для всего Запада. Во-первых, это соперничество между идеологией императорской власти в Византии и идеологией крестового похода. По мнению хронистов, крестоносцы обладали особым священным ореолом. Крестовый поход считался справедливым и священным, а крестоносцы являлись носителями священной божественной миссии и исполнителями воли Бога (см. подробнее: [16; 18]). С другой стороны, у византийцев были претензии на божественность власти императора и в целом на руководящую и направляющую роль в христианском мире. Принято было считать, что император пользуется божественной поддержкой и получает власть непосредственно из рук Бога [3. P. 15]. Такая позиция не могла быть совместима с позицией западных хронистов, косвенно ставивших крестоносцев выше византийцев в том числе и по религиозному признаку. Во-вторых, нужно обратить внимание на то, что между западной и восточной христианскими традициями имели место разногласия, существовавшие на тот момент уже долгое время. Отношения не были стабильными: в том же XI в. были и схизма 1054 г., и потепление отношений в понтификат папы Урбана II накануне крестового похода. Все это могло оказывать влияние на мнение Запада о Византии, проявлявшееся, в частности, и во всех хрониках первого крестового похода.
Однако при всем этом нами была найдена специфика «Деяний франков», объясни- мая, на наш взгляд, их итальянским происхождением, и эта специфика выражается в сдержанности критики по отношению к Византии. Для того чтобы это увидеть, будет необходимо поэтапно сравнить хронику Анонима и другие хроники предполагаемых участников первого крестового похода.
Разница между «Деяниями франков» и хроникой Петра Тудебода хорошо видна на примере негативных эпитетов, применяемых к императору и византийцам. В хронике Анонима их имеется достаточно много. Император «недоброжелателен» (iniquus): «Наконец, герцог Готфруа первым из всех сеньоров пришел с большим войском в Константинополь двумя днями ранее Рождества и остановился за городом, пока недоброжелательный император (iniquus) не приказал им расположиться вне городских стен. Расположившись, герцог каждый день осторожно рассылал своих оруженосцев, чтобы доставить солому и другое необходимое для лошадей. И хотя они считали, что могут с уверенностью выходить, куда хотят, недоброжелательный (iniquus) император Алексей приказал туркополам и печенегам (латинские обозначения здесь являются производными от греческих: Τουρκό^ουλοι и Πατζινάχοι. Речь идет о турецких и печенежских наемниках [4. P. 16]) нападать на них и убивать» (Dux denique Godefridus primus omnium seniorum Constantinopolim venit cum magno exercitu, duobus diebus ante Domini nostri Natale, et hospitatus est extra urbem, donec ini-quus imperator iussit eum hospitari in burgo ur-bis. Cumque fuisset hospitatus dux, secure mit-tebat armigeros suos per singulos dies, ut paleas et alia equis necessaria asportarent. Et cum pu-tarent exire fiducialiter quo vellent, iniquus im-perator Alexius imperavit Turcopolis et Pinzina-cis invadere illos et occidere) [6. P. 6].
Как известно, хроника Петра Тудебода в основном совпадает с «Деяниями франков», поэтому здесь он рассказывает аналогичный сюжет (Dux itaque Godefredus primus Constantinopolim venit, cum suo magno exercitu, per duos dies ante Domini nostri Ihe-su Christi nativitatem, et hospitatus est jux-ta Constantinopolim. Fuitque ibi donec iniquus imperator iussit venerabiliter hospitari in bur-go. Cumque hospitatus fuit secure legebat dux armigeros suos per unumquemque diem foras, quatinus paleas et alia necessaria asportarent. Et jam computabant cum fiducia exire quocumque ire voluissent; iniquus imperator Alexius nomine sagaciter faciebat eos excubare suisque Tor-copolis et Pincinacis imperabat eos invadere et occidere) [11. P. 38]. «Iniquus» может переводиться по-разному: со ссылкой на библейские тексты указывается даже на значение «безбожный, нечестивый» [5. P. 830], однако основными значениями являются все же значения, связанные с недоброжелательностью, несправедливостью и враждебностью. Ниермейер в принципе не приводит значений слова, связанных с религией [10. P. 704]. Аноним также называет императора «nequis-simus» (негоднейший), когда дает свои комментарии по поводу принесения ему клятвы: «ввиду необходимости волей – неволей унизили себя перед негоднейшим из императоров» (…necessitate compulsi nolentes volente-sque humiliaverunt se ad nequissimi imperatoris voluntatem) [6. P. 12]. Петр Тудебод опускает эту фразу, зато в другом месте называет императора «exsecratus» (проклятый, гнусный, ужасный): «Армия проклятого императора пришла и атаковала графа, его братьев, и всех, кто был с ними» (Venit itaque exerci-tus execrati imperatoris, invasitque comitem cum fratre suo et alios omnes) [11. P. 41]. Стоит заметить, что эта фраза имеется и у Анонима, но Петр добавляет сюда свою терминологию, которая указывает на религиозную сторону. Кроме того, Петр пишет, что император есть «prophanus», что тоже указывает на религиозную нечистоплотность («лишенный святости», «нечестивый»): «Мы не можем делать что-либо иное. Мы находимся в милости нечестивого (prophanus) императора, и нам следует выполнять все, что он нам приказал» (Nos certe nequimus aliud agere. In roga enim prophani imperatoris collocati sumus; et quicquid nobis imperat, oportet illud adimplere) [Ibid. P. 42]. Здесь аналогично: фраза практически совпадает с «Деяниями франков», но эпитет «нечестивый» добавил Петр Тудебод. Иными словами, Тудебод, в отличие от Анонима, использует терминологию, которая, по всей вероятности, указывает на религиозную сторону дела.
«Вершиной антивизантинизма у Анонима» (le sommet de l’antibyzantinisme chez l’Anonyme) исследователь Б. Скулатос назвал единственное место в хронике, где Аноним критикует византийцев в целом [14. P. 532]. Прямо о византийцах не говорится, насчет них здесь скорее сделан тонкий намек, вставленный в речь мосульского атабека Кербоги: «Мы прибыли сюда затем, что весьма дивимся, по какой причине и почему сеньоры и предводители, которых вы упомянули, называют своей землю, которую мы отобрали у женоподобных (effeminatus) народов?» (Huc usque iam venimus eo, quod valde mira-mur quamobrem seniores ac maiores quos me-moratis, cur terram quam abstulimus effemi-natis gentibus illi vocant esse suam) [6. P. 67]. Аналогичный абзац имеется у Петра Тудебо-да, т. е. в этой критике два хрониста выступают на равных (Huc usque iam venimus eo quod valde miramur quamobrem seniores ac maio-res sive minores quod vos memoratis cur terram quam abstulimus propere maxima virtute effe-minatis gentibus et illi vocant esse suam) [11. P. 109]. Однако речь здесь не идет о религии, и эта критика не сравнима с критикой императора Петром Тудебодом.
Раймунд Анжильский, как может показаться вначале, уделяет довольно мало внимания византийской тематике сравнительно с Анонимом. Однако это следствие оговорки, сделанной Раймундом в начале его хроники: хроника будет посвящена только графу Раймунду Сен-Жилльскому. Отношение хрониста к Византии в целом негативно, хотя и упоминается помощь императора при осаде Никеи. В «Деяниях франков» гораздо больше говорится о полезности византийцев, ибо неоднократно говорится о поставках провизии с их стороны еще до Никеи. Но более важной здесь является одна из цитат с жесткой критикой византийцев: «Первый дар, который пожаловал вам Господь, т. е. Никея, отвернулся от него. Бог дал вам свой город, который отнял у врагов ваших, но затем не был там познан. И если кто-нибудь упоминал имя Господа, он был побит плетьми. Дела Божьи не имели там места» (Prius donum quod vobis contulit Dominus scilicet Nicea est, aversa ab eo, Deus donavit vobis suam civitatem et abstu-lit eam inimicis vestries et postea non fuit ibi co-gnitus, et si aliquis nomen Domini invocavit ibi fuit flaggelatus, et opera Domini non fuerunt ibi facta) [7. P. 86]. Как известно, Никея сразу же после ее сдачи была занята императорскими войсками. Таким образом, Раймонд Анжиль-ский фактически говорит о религиозных недостатках византийцев, чего никогда не делает Аноним. Несмотря на конфликты церквей,
Аноним знал византийцев в повседневной жизни и представлял их как христиан.
Фульхерий Шартрский за некоторыми исключениями в принципе не ругает византийцев. Критика не имеет религиозного характера: например, в повествовании о войне между Боэмундом и императором Алексеем Ком-нином уже после крестового похода, он называет императора возмутителем и тираном (perturbator et tyrranus) [12. P. 418]. В письме папе от крестоносцев греки фигурируют как еретики, но это не есть авторская критика, а, скорее, пересказ письма. Стоит, однако, заметить, что Фульхерий Шартрский фактически игнорирует в своей хронике византийскую тематику, что не дает нам до конца понять суть его взглядов. Аноним, напротив, придает важность этой тематике в своей хронике. Как справедливо замечает Джонатан Шепард, Боэмунд мог быть заинтересован в сотрудничестве с императором из карьерных целей, и на это есть ряд указаний в источниках [13]. В таком случае неудивительно, что его хронист уделил византийским вопросам должное внимание.
Таким образом, мы можем сформулировать предварительную гипотезу. Автор хроники критикует византийцев, что связано с событиями в отношениях двух церквей, соперничеством идеологий и частными конфликтами норманнов и византийцев. Но критика со стороны автора «Деяний франков» имеет свои пределы. На наш взгляд, это связано с тем, что норманны в Италии знали византийцев в повседневной жизни, и знали их как тех же христиан, поэтому эта критика не говорит о недостатках византийцев в религиозном плане. Аноним уделяет отношениям с Византией достаточно внимания: это является либо следствием личной позиции автора, либо политических планов Боэмунда Та-рентского.
Материал поступил в редколлегию 05.10.2007